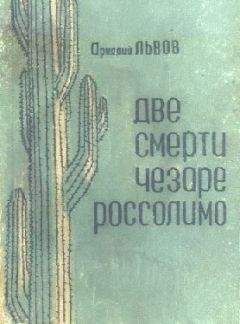— Нет, — возразил он, — просто я не заметил, когда его не стало.
— Ну, мой милый, — воскликнула она, — ты уж вовсе считаешь его ничтожеством и потому забываешь, что воспитанные люди умеют исчезать незаметно.
— Ты права, — согласился он, — я забыл, что он воспитанный человек.
— К чему эта ирония, милый! Ты бы все-таки мог допустить иногда, что на белом свете есть, кроме тебя, еще один воспитанный человек.
— Пожалуй, — кивнул он, — и если можно, давай помолчим немного.
— Нет, — воскликнула она, — молчать не будем. Я знаю, ты будешь сводить счеты со мной мысленно, пока тебе не покажется, что можно сказать об этом вслух.
Она бывает проницательной, подумал он, и с этим надо считаться.
— Да, — согласился он внезапно, — мне нужна тишина, чтобы найти слова, которые я должен сказать тебе.
— Милый, — она погрозила ему пальцем, — когда любят, нужные слова приходят сами. Это преимущество влюбленных.
Послушай, вдруг захотелось ему крикнуть, мне надоела эта болтовня, я ничего не хочу знать про влюбленных и про то, что им можно и чего им нельзя. И вообще, поди догони, пока еще не поздно, ты своего вышибалу и занимайтесь своей любовью и объясняйте друг другу, какие огромные преимущества у влюбленных, а меня оставьте в покое.
Она положила руку ему на плечи — руки дрожали, и он видел, что она хочет, по-настоящему хочет, унять дрожь, но руки не слушаются ее; наоборот: дрожь усиливалась всякий раз, когда она пыталась быть настойчивее.
— Успокойся, — он обнял ее, прижимая голову к своей груди, — ничего страшного нет — просто я немножечко устал от драки.
— Устал, милый, устал, — повторяла она, всхлипывая, — очень устал.
Это правда, говорил он себе, я в самом деле устал, но драка здесь ни при чем, и мы оба понимаем, что драка здесь ни при чем, но зачем-то ломаем друг перед другом комедию бескорыстной и заботливой любви.
— Но, — неожиданно произнес он вслух, — если ломаем, значит, иначе пока не можем.
Она опять всхлипнула, на мгновение подняла голову, страдальчески глянула ему в глаза, но ничего не сказала.
Хорошо уже и то, подумал он, что она не требует объяснений.
Засыпая, она пробормотала:
— Милый, скажи, что ты меня очень любишь.
— Я очень люблю тебя, — произнес он уверенно.
— Да, да, — ответила она неясно, горячей скороговоркой, — я верю тебе. Очень верю.
Когда она заснула, он попытался встать, но для этого надо было сначала освободиться от объятий. Он развел ее руки, лежавшие у него на затылке, прислушался к дыханию, затем, очень осторожно, стал отводить голову со своей груди — и она проснулась,
— Что такое, милый? — спросила она строго, звонким голосом, которого никогда не бывает у человека спросонок. — Тебе надо уйти?
— Нет, — сказал он, — спи спокойно, мне ничего не надо: просто я хотел переменить позу.
— Хорошо, милый, тогда все в порядке.
Произнося эти слова, она оглянулась, и он, следуя за ее взглядом, опять увидел того, за кустом сирени. Она в испуге подалась назад, будто в поисках заслона, но он оставался спокойным, и это его спокойствие, видимо, внушило ей тревогу. Во всяком случае, никакого другого повода для тревоги у нее сейчас не было.
В нынешний раз тот, за кустом, нисколько не беспокоил его. Напротив, он даже был непрочь переговорить с ним, хотя о чем именно говорить, оставалось неясным.
— Милый, — прошептала она, — ты не должен так ревновать меня. Слышишь, не должен.
— Ага, — откликнулся он, — не должен.
— Я люблю тебя, одного тебя. Я верна тебе, только тебе, а его я ненавижу. У меня с ним ничего не было, — вдруг всхлипнула она. — Ну, почти ничего. Один только раз, когда ты долго не приходил и я испугалась, что ты вообще не придешь…
— Очень жаль, — оборвал он ее резко, — что ты так ограничивала себя.
— Милый, — проворковала она, — не надо сердиться, клянусь, ничего такого… как с тобой… у нас не было.
— Послушай, — сказал он, — мне безразлично, почему и сколько раз это было у вас.
— Милый, — захныкала она, — ну, не надо так сердиться: я понимаю, что тебе очень больно, но, клянусь, это не повторится.
Он молчал, и тогда она сказала:
— Если хочешь, я убью себя. Себя и его.
Голос у нее был теперь решительный, с тем оттенком приглушенности, какой бывает при глубоком волнении, которое надо, однако, любой ценой скрыть.
— Уходи, — сказал он. — Вдвоем уходите.
— Нет, — воскликнула она, — нет!
Он оттолкнул ее, и в это же мгновение поднялся над землей тот, за кустом сирени. Через секунду, как в прошлый раз, о землю должно было удариться грузное человеческое тело. Но удара не было ни через секунду, ни через пять секунд — тот, с лицом вышибалы, исчез. Она взвизгнула, цепляясь за него потерявшими силу и вес руками, он оттолкнул ее и закричал пронзительным голосом, которого никогда прежде у него не было:
— Уходи! Вон! Вон!
— О-о! — застонала она, и стон ее замирал, как тонущее в колодце эхо.
Не стало запаха сирени. Северная стена еще светилась голубым, на котором просматривались только небольшие темноватые уплотнения — одно из них напоминало человеческую фигуру.
Он сидел в кресле, оцепенело, без мыслей, без желаний. В голове мелькали какие-то слова, может быть, даже не слова, а только тени слов. Иногда он следил за ними — равнодушно, как паралитик за проносящимися мимо него предметами. Но два слова возвращались чаще других, и в конце концов он увидел эти слова, сначала увидел, а потом услышал.
— Телевизионные фантомы, — произнес он вслух, и эти слова, которыми он овладел, прекратили бестолковое мелькание других слов.
С улицы, через закрытые окна, пробивался тяжелый, натужный, с неожиданными всплесками, гул. Он представлял себе этот гул графически — череда небольших зубцов с опиленными вершинами и внезапно, как шпиль средневековой ратуши, гигантский зуб с пронзительно четкой вершиной.
С минуту он прислушивался к этому гулу, предощущение ВАЖНОГО наплывало на него теплой тревожной волной, и он всеми силами старался удержать его, но оно мгновенно исчезло, едва он узнал его — что-то внутри, в нем, произвело сопоставление, и теплой волны не стало.
Четыре стены комнаты наступали на него, и он отчетливо ощущал, что они наступают, хотя для глаз стены оставались неподвижными. Смыкаясь, они образовали колодец, дно этого колодца плавно, как бесшумный лифт, уходило вниз. С самого начала, только дно пришло в движение, он почему-то ожидал остановки, будто эта остановка сама по себе могла что-то изменить.
Но остановки, которую он ждал, не было: чтобы дно перестало двигаться, надо было встать.