Нет ничего в прошлом.
Прошлое родится заново — как оправдание настоящему.
Вспыхнет, как звезда, и остынет темными планетами-брызгами…
И не будет солнца в этом мире, ибо свет станет тьмой, а тьма — светом.
И ложь воплотится в тела и предметы, став истиной, а истины утратят имя свое.
И никто не скажет на белое — «это белое», а на черное — «это черное», ибо ни белого, ни черного не останется в том мире из этого, а то, что останется, назовут другими словами.
Одиннадцать, стоящие в ряд у стены, значат: сгустились тучи, и поднимается ветер. Небо темнеет от стрел. Дым полей застилает солнце. Враг, вышедший на брань, горд собой, и нет ему равного в схватке. Не увидят ушедших плачущие, и много сирот пойдет по дорогам, не в силах забыть тепло. Лишь к живущим жестока судьба…
Автомат странно мягок в руках.
Невидимые, они прошли мимо стражников, сонно обвисших на древках крестовидных копий. Похожая на желоб дорога уходила в седловину меж двух холмов, а за холмами лежало то, что Аннабель недавно видела сверху, посылая на разведку дымок, генерал и улан — в прежней службе, и только Берт еще не видел. Может быть, стоило бы это обойти, но нужны были лошади — а лошади там были. Лошади, упряжь, повозки. И лишь два солдата в белом.
Был резок свет раннего дня, безветрие угнетало. Над невообразимой пустошью Эуглека — сюда их вынесло из изнаночного мира — лишь начинали собираться плоские еще, похожие на шляпки от Кроллиана, облака на вершинах термиков. После полудня они набухнут, как грозди, прольются — или не прольются — дождем, прибивая тонкую пыль когда-то цветущей долины… Нежна была дорога под ногами.
Пронзительно стояла тишина.
Молча кружили впереди вороны.
Изогнулась трава на обочинах. Изогнулась и посерела. Оставшись живой.
Страшно хотелось пить.
Генерал был бел, как сама смерть, но шел, отказавшись от помощи, сам. Берт и улан лишь страховали его. Даже ранец он не отдал, как ни просили.
После полудня может собраться дождь.
Может и не собраться.
Боже, как глупо все. Как бездарно.
Привыкнув к скоростям, невыносимо перебирать ногами и делать вид, что движешься.
Пологий подъем незаметно перешел в пологий спуск, и открылся взгляду котлован.
А на секунду раньше — настал смрад.
Но — смрад, непохожий на смрад человеческих скоплений: такой она знала и не относилась к нему слишком нервно. И ее доля бывала в том, так стоило ли морщить нос? Нет, этот смрад напоминал почему-то о тех уровнях в логове Дракона, ниже которых их не пускали; или о дымных осенних вечерах на ферме Зага Маннерса, ее первого антрепренера. Или даже о парфюмерных фабриках Дэнниусов, там ей приходилось бывать…
Необозримое море тел открылось им.
Голубовато-бледные, голые, уродливые, тела лежали, или сидели, или бродили меж других таких же тел; ни осмысленности, ни тоски не было в этих перемещениях. Взявшись за руки — попарно, по трое, по четверо — исполняли медленные движения, как на репетициях танцкласса. И где-то в глубине этого моря, как остров, чернело пустое пространство, и в центре этого пространства, этого голого острова поднималась, похожая на росток бамбука, коленчатая башня. Ревматические сочленения ее светились красным, видимым даже днем светом.
Она была омерзительна.
Стократ омерзительнее голых и грязных тел, копошащихся у ее подножия.
Берт булькнул горлом. Аннабель покосилась на него. По серому лицу Берта катились крупные капли.
— Идем, — сказала Аннабель и сглотнула, сдерживая позывы к рвоте. — Бернард, завяжите глаза. Я думаю, нам тоже стоило бы завязать…
— Я смогу, дочка, — сказал генерал. — Кому-то надо видеть и глазами…
— Только не вам, генерал, — сказал Берт. — После этой ночки — нет.
— Это уж точно, — подтвердила Аннабель. — Ладно, не будем делать проблему. Пойдем с закрытыми глазами, надо будет — откроем…
— Ваше величество, я мог бы… — начал улан, но Берт похлопал его по плечу и молча покачал головой.
Аннабель уже закончила накладывать «кошачий глаз», когда заметила перемены в поведении людского теста. Там, ближе к башне, вдруг начались непонятные мелькания, рябь, обозначился такой вот рябящий круг — с два футбольных поля, не меньше — и в круге этом рябь все усиливалась, все убыстрялась, а потом вдруг кажущееся сплошным полотно тел лопнуло, разошлось на отдельные полосы, и полосы эти побежали от границ круга к центру, пересекаясь под углом и образуя острый клин, все увеличивающийся и темнеющий, и вдруг стало понятно, что в этом клине люди стоят, или лежат, или что еще делают? — не в один, а в два, в три, в четыре слоя, и все новые волны набегают на него, увеличивая, увеличивая, увеличивая толщину этого страшного месива… А через миг клин задрожал, как желе, расплылся — и распался на мельчайшие пылинки, и там, где следовало ожидать увидеть груды раздавленных, изувеченных тел, не оказалось ничего… Серая земля.
— Может, все-таки лучше обойти? — неуверенно сказал Берт. — Попадем в такую давильню…
— Не обойдем мы, — сказала Аннабель. — Лучше и не пытаться.
Она не смогла бы описать то, что видела и чувствовала в своем развоплощенном полете, но все ее новые знания и инстинкты буквально кричали: не подходить! Не трогать! Даже не смотреть пристально на это!..
Похоже было на то, что вся странная, нечеловеческая магия гернотов воплотилась в мертвых почерневших деревьях, низких каменных лабиринтах, стелах из красного кирпича и выдавленных в земле, как в сургуче, печатях с неразборчивыми письменами.
Не темным, неразборчивым и злым веяло от них — нет: четким, холодным, выверенным, бесстрастным, мертвым — мертвым и обращающим в мертвое просто по природе своей. Аннабель с высоты смотрела вниз, видела черные деревья, стелы из красного кирпича и выдавленные в земле печати, но сквозь все это проступало и исчезало тут же то бронзовое сочленение, то стальные жвалы, то ажурный скелет крыла, то фасетчатый глаз…
— Только прямо, — тихо сказала она. — Без паники. И ни во что не вмешиваться…
Аромат истлевших, раздавленных цветов принял их в себя. Он пьянил, как светлое вино, и отнимал часть веса, как вода. Идти было легко, труднее — держать равновесие. Край людской толпы был близок, но приближался как-то слишком медленно — медленнее, чем они шли. Будто кто-то невидимый подбрасывал на дорогу лишние футы.
Потом, как из тумана, на земле поперек пути проступила красная полоса. Аннабель подошла к ней и остановилась. Справа и слева подошли и остановились спутники. Полоса — точно такая же — появилась бы, если бы сквозь щель на землю падал резкий и яркий чистый красный свет. В ней было около шести футов ширины. Можно было тронуть ее ногой или острием меча или присесть и протянуть руку — но Аннабель знала уже, что не будет этого делать. Прыгнуть — пожалуйста. А дотрагиваться… Пусть пьяные ежики дотрагиваются.

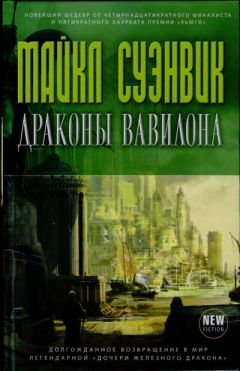
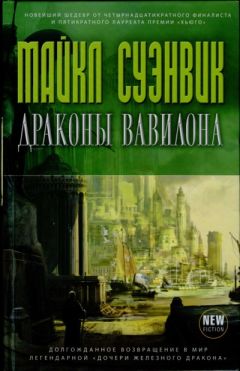

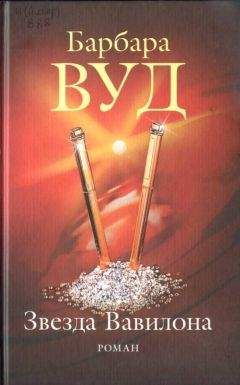
![Гарри Гаррисон - Стальная крыса отправляется в ад [= Стальная крыса в гостях у дьявола]](https://cdn.my-library.info/books/228/228.jpg)