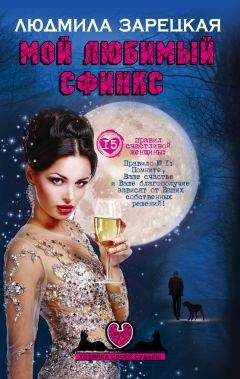Какие не похожие на их собственное сознание были облачка путников извне! Но у него не было ни времени, ни желания думать, в чем же состоит разница. Облачка путников мерцали, слабели. Частицы, что складывали их и в чьей мозаике закодировано было их «я», вот-вот готовы были разбрестись, и тогда никто и никогда не смог бы помочь им, потому что только сама мозаика индивидуальна, частицы, из которых она сложена, безлики.
Его щупальца коснулись двух облачков.
* * *
Потом Надеждин будет вспоминать:
– Понимаете, несмотря на все успехи науки, мы, земляне, наверное, все-таки еще очень примитивны. О многих вещах нам легче думать сравнениями. Так вот тогда мне вдруг почудилось, что в кромешной без проблеска тьме, в безбрежном, без конца и начала океане ужаса и отчаяния, в котором я тонул, я почувствовал прикосновение спасательного круга. Я даже не обрадовался. Я был слишком обессилен неравной схваткой с ужасом, я уже смирился со смертью, даже звал ее. Помню, что мелькнула нелепая мысль: «А как же я ухвачусь за спасательный круг, если я не умею управлять своим телом? Если его вообще у меня нет?»
Но кто-то помог мне перевалиться на круг, почувствовать опору. И этот кто-то – я ясно ощущал его присутствие и даже близость – начал… как бы это выразить… Ага, знаю. Одно из самых счастливых и томительно-сладостных воспоминаний моей жизни: мы с Леной сидим на берегу канала, где я родился и вырос. Теплый летний день. Я положил голову ей на колени, так, чтобы не надавить на ее раздутый живот, где доживал в заточении последние недели Алешка. Конечно, мы знали, что она родит мальчика, догадывались, что он будет Алешкой, но еще не были в этом уверены. Но не в этом дело. Алешка присутствовал тогда как бы незримо, отделенный от нас Лениным животом. Были она и я и мир вокруг. И солнце. И скрипучие крики чаек вовсе не казались скрипучими.
Я спросил: «Тебе удобно сидеть?»
Она промолчала. Я знал, почему она молчит. Счастье сделало меня проницательным. Ей было слишком хорошо, чтобы отвечать. Она не раз говорила мне, что никогда не нужно пытаться определить счастье. Оно слишком хрупко, мимолетно и не выносит классификаций и рубрикаций. Подобно тому как в физике нельзя точно определить местонахождение отдельной частицы – само измерение уже влияет на нее, – так и попытка измерить счастье убивает его.
Она лишь протянула руку и начала перебирать мне волосы. И прикосновения ее пальцев были невыразимо, даже тягостно сладостны. Ее пальцы пахли солнцем и влагой. Я перестал дышать. Время остановилось, и я слышал лишь биение двух сердец, Лениного и моего. А может, и маленького третьего, Алешкиного. Дышать было нельзя, потому что счастье было так огромно, так невозможно, что я чувствовал: любые движения, любое слово может спугнуть его.
Вот так же невыразимо ласково, осторожно и терпеливо кто-то касался моей головы в этой проклятой тьме. В ней не было ни нагретых камней берега, ни Лениных коленей, ни голубого неба, ни сварливых криков чаек. Была лишь противоестественная тьма. Она не исчезла, не исчезло ни отчаяние, ни ужас, ни душащий кошмар. Но был спасательный круг и некто, кто нежно перебирал содержимое моей несуществующей головы. И невозможная успокоенность, поистине невообразимая, потому что слову «спокойствие», казалось, просто не было места в этой чудовищной фантасмагории, нисходила, нисходила на меня.
Я не знал, кто спасал меня, кто протянул мне спасательный круг, но я доверился ему. Никогда больше не буду я бездумно повторять старое клише «братья по разуму». Разум еще не критерий для братства, слишком часто он бывает таким, что не располагает к братству. Скорее наоборот. Ведь разум может быть и жестоким, и коварным, и равнодушным. Сострадание вот критерий. Оно неизмеримо ближе нам, чем просто разум, потому что всегда имеет один знак – плюс… Разум в нравственном отношении нейтрален, сострадание же всегда высоконравственно.
Вот так Крус – конечно, тогда я еще не знал, что это именно он пришел нам на помощь, – спас нас в самые страшные первые часы заключения в Хранилище.
* * *
Отрядом командовал Утренний Ветер. Их было восемь. Восемь самых сильных дефов, снабженных лучшими трубками и самыми свежими аккумуляторами.
Они шли уже давно и теперь, приближаясь к городу, соблюдали особую осторожность. В любых развалинах могли таиться стражники. Они уже вступали в зону действия приказов Мозга, здесь все грозило опасностью.
Они шли осторожно, включив глаза на полную мощность. Было темно, и они видели все вокруг в инфракрасных лучах. Нагретые камни излучали тепло, и над ними дрожали еще яркие облачка. К утру они остынут, облачка потускнеют, исчезнут, но тогда уже можно будет перейти на оптический диапазон.
Странное дело, думал Утренний Ветер, они идут, каждое мгновение ожидая, что откуда-нибудь выскользнет луч, мгновенно прочертив темноту яркой смертельной линией, и вопьется в чью-нибудь голову, а он думает вовсе не о вечном бытии, а о том туннеле с непроницаемым мраком, образ которого не раз уже смущал его покой. Должно ведь, должно было быть нечто большее, более важное, чем вечная забота об аккумуляторах и ненависть к городу. Они ведь не кирды, которые пробуждаются и засыпают по приказу, не маленькие туни, которые сидят на камнях и подпрыгивают, чтобы схватить челюстями пролетающую мелкую живность.
Может быть, пришельцы знают тайну, которая прячется в черном туннеле. Они мудры, они видели множество миров, они странствуют в межзвездном пространстве в огромном корабле, они должны знать отгадку.
Конечно, он должен был поговорить с Володей, но Рассвет посоветовал ему не торопиться. Рассвет, как всегда, прав. «Ты хочешь от них высшей мудрости, – сказал Рассвет, – потому что нет большей тайны в мире, чем смысл существования разума, пытающегося понять смысл своего существования. Но высшая мудрость нуждается в покое. Дай Володе прийти в себя, оглядеться, и тогда ты спросишь его о своем туннеле».
Послышался испуганный писк, и два аня тяжело вылетели из развалин в быстром трепете крыльев – два теплых, трепещущих облачка на фоне черного неба. Аням не нужно думать о смысле жизни, им не приходится платить эту цену за разум…
Внезапно Звезда, который шел впереди, остановился. Утренний Ветер огляделся. Задние глаза не зарегистрировали ничего, кроме остывающих камней и остывающей земли, зато передние заметили какое-то движение. Вдалеке, почти у самого города, двигались еле различимые пятнышки. Они находились на пределе видимости, и нельзя было даже различить, сколько их.