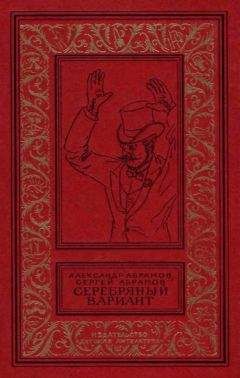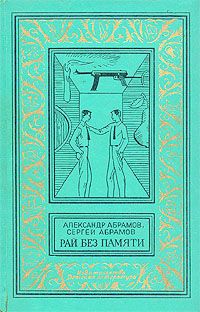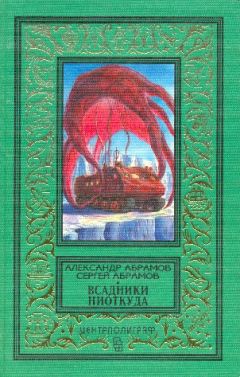Глохнет голос, гаснет золотой шар, темнеют солнечные блики на стенах. Морозная дымка укладывается в прямоугольник окна, открытого как обычно. Значит, я уже дома. Довезли ребята, спасибо им.
За столом, склонив голову набок, что-то прилежно пишет Волохов. Вот он подымает голову, губы его шевелятся — считает или придумывает? Потом, заметив, что я очнулся, радостно улыбается.
— Как самочувствие, Николай Ильич?
— Фифти-фифти. А где ребята?
— Да с полчаса как ушли. Я тут посчитал кое-что, пока вы спали, а Инка в магазин побежала: у вас в холодильнике пустыня, хоть бы консервы с горошком или баклажанная икра. А то — чистая Антарктида. — Он встает, застегивает пальто. — Пойду ее встречу; может, капусту купила — помогу. А вы лежите пока, мы скоро.
Волохов уходит, а я закрываю глаза, вспоминая подсмотренное сквозь щелку во времени. Она снова приоткрылась, показав мне уголок прошлого, забытого, но все же не мертвого.
Вот и еще одной тайне конец: я вегетарианец не по убеждениям, не по привычкам. Это не аномалия в моем организме, это необходимость, рожденная условиями жизни на родине. Иначе человек там перестанет быть человеком. Кстати, это — тоже форма протеста, знакомая мне не только по кинематографу памяти.
Я видел и на Земле таких «протестующих». Нечесаные, грязные, эпатирующие прохожих бездельники — на улицах Лондона, Стокгольма, Нью-Йорка. Протестуйте себе на здоровье, но знайте, против чего вы идете. Худшая, трусливейшая форма протеста — пассивный протест, без борьбы, без цели. Вам не нравится общество, в котором вас принуждают жить? Ломайте его, перекраивайте, стройте заново во имя счастья миллионов, но не молчите, не опускайте бессильно руки, не превращайтесь в лежачий камень, под который и вода не течет. Вы повторяете ошибки моей планеты, где таким же, как вы, осталось совсем немного до последнего, страшного шага.
Хлопнула входная дверь. Шепот в прихожей. Каблуки простучали по коридору на кухню: Инна. Вот она уже гремит кастрюлями, в который раз удивляясь, что приходится варить своему учителю не вкусный мясной обед, а капустно-морковное месиво.
Как они еще молоды — мои родные ребята. Им тоже не нравится кое-что в этом мире. Они с запальчивостью осуждают все устоявшиеся научные истины, все критерии и правила, придуманные до них не Моцартом, а Сальери. Они запросто выбрасывают устаревшее, отжившее и приносят свое, новое, необычное, что заставляет испуганно кривиться ханжей от науки или искусства. Пусть кривятся: это неизбежно. Но, придумывая свое, помните, что на смену вам идут такие же — неугомонные, протестующие, изобретательные. И быть может, они сломают многое из того, что вы возводили в науке, и построят свое. Тогда вспомните себя и не мешайте им. Ладно?
Припадки чаще и откровеннее.
Прошлое вторгается властно в мой новый мир, все объясняя, и объяснения, как мертвые кирпичи, одно за другим воздвигают все выше стену между мной и людьми. Но Маугли уже стал человеком и не в состоянии вернуться в джунгли. И не захочет, даже если бы такое возвращение было возможно. Кто знает, что нашел бы он сейчас на камнях породившего его мира? Пожирающих друг друга питекантропов или горсточку заживо умирающих мудрецов, отягощенных своей бесполезной мудростью?
Недавно я побывал в Лондоне на симпозиуме математиков, стремившихся каждый по-своему сформулировать теорию связи, или, как ее еще называют, теорию информации. О чем я думал, прогуливаясь по блистательной Пикадилли или по окраинным переулкам Лондона? Если бы этот мир развился, не имея перед собой противостоящего ему мира социалистического, он, вероятно, достиг бы тех же самых вершин, до которых добралась моя далекая цивилизация. До тех ледяных высот, вымораживающих в человеке великую сущность бытия — счастье жизни и радость творчества. Не зря меня называют «снежным человеком». Я сын того же холодного мира, где не только вода замерзает, но и души.
Я почувствовал дыхание этой душевной мерзлоты и на лондонском симпозиуме, когда сорокалетний профессор Кингсли сделал сенсационное заявление о ненужности дальнейших математических изысканий. Они, мол, всегда несут с собой непредвиденную опасность, как невинное стремление Резерфорда проникнуть в тайны атома принесло в жертву Хиросиму и Нагасаки. «Да и вообще любое достижение науки, как только оно становится применимым в массовом масштабе, — обобщил он свою мысль, — подчас приносит опасности, почти непреодолимые».
Тогда я только подивился этой духовной ограниченности, мимоходом подумав, а не рассуждал ли так же и мир, меня породивший? Но не дождался припадка, а вместе с ним и ответа на мой вопрос. Ответ пришел позже, уже в Москве, когда я прочел в газете полемику двух ученых — американца и русского. Уже другой американский профессор, не Кингсли (как заразительна эта душевная мерзлота!), утверждал, что развитие науки находится в явном противоречии с интересами человечества. Он привел почти те же аргументы. Русский высмеял этих интеллектуальных самоубийц. Высмеял беспощадно и умно, доказав, что каждая победа человеческого гения отзывается благом в жизни людей.
Я читал газету, лежа на кушетке в гостиничном номере, и вторжение прошлого на этот раз не опрокинуло меня наземь. Долго ли длился припадок, я не знаю, но он открыл мне еще один уголок моей родины, еще один краешек той пропасти, к какой двигались мои соплеменники. Как и ранее, то был не сон и не смутное воспоминание, а почти совершенная модель прошлого.
…Мне около тридцати, я только что назначен Вычислителем в состав новой космической экспедиции, первой за три столетия, прошедшие с тех пор, как были прекращены исследования космоса (я привожу цифры в земном исчислении, так как нынешняя мысль моя не в состоянии воспроизвести их иначе). Из давних хроник я узнал, что последний космический корабль не вернулся. Новых уже не проектируют, изучение Вселенной приостановлено, не строят обсерваторий и не готовят астрономов. Лишь несколько старых обсерваторий доживают свой век на планете. Там работают ученые-самоучки. Я был в их числе, когда поступил сигнал о моем назначении на пост Вычислителя. Теперь меня иначе не называют.
— Ты не боишься, Вычислитель?
— Нет.
— Сейчас корабли проектировать не умеют.
— Пусть так.
— Этот строили такие же любители, как и мы.
— Я полечу на таком.
Лицо моего собеседника тает в сумраке плохо освещенной обсерватории.