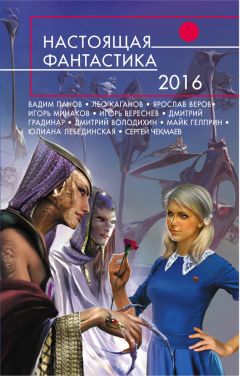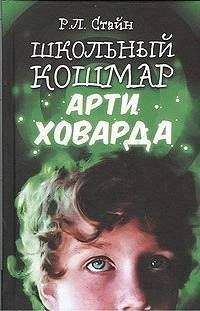– Хорошо, можешь пока идти.
Оставшись один, Карнаухов налил себе вина – темного, фиолетового, осушил бокал залпом, подумал – не налить ли еще, побарабанил по столу. Щелкнул пальцами, в розовом облаке появилось лицо сына. Вадим выглядел утомленным и невыспавшимся.
– Гостья заболела, – без обиняков начал отец.
– То, что ты и предполагал?
Сергей Владимирович опустил голову.
– Я скоро буду, – отозвался сын. – Я все это время производил кое-какие расчеты и… об этом не по связи.
Стояла глубокая ночь. В бревенчатом доме у озера свет горел в одном окне – окне гостиной. Там шел непростой разговор.
– Вадим, я тебя не понимаю. Сначала ты ввязался в это дело. Потом отстранился. Теперь…
– Нет, отец, как раз ты и можешь меня понять. Совесть. Как жить, если этот червь точит тебя изнутри? Совесть – змея, пожирающая собственный хвост!
– Значит, ты…
– Сумматор вычислил точку во времени, близкую к ее эпохе, где она может быть счастлива… Таня, а не точка, – невесело уточнил Карнаухов-младший.
– И ты, конечно, не собираешься уведомлять Совет об авантюре? Можешь не отвечать, я знаю ответ! Что ж, по крайней мере хорошо уже то, что кровь Карнауховых наконец взыграла в тебе. Разумеется, ты идешь на преступление. Ты хоть понимаешь, что Сумматор капсулы мог и ошибиться?
– Мог. Но не ошибся. И вот почему. Расчеты показывают, что она погибнет в короткий промежуток времени по возвращении, поэтому неопределенность не возникнет.
– Выпьем. Что в лоб, что по лбу. Умрет счастливой… сомнительное счастье. Извини, это вино. Я не хотел каламбурить.
Вадим отодвинул бокал.
– Пей, я пока не стану. Сумматор показывает и другие линии. Если она останется там не одна, то уцелеет. Я отправлюсь с ней.
Сергей Владимирович махнул бокал одним глотком.
– Ты спятил, сын мой. Тебя там прихлопнут, как цыпленка. Это же двадцатый век!
– Почти…
– Один черт… Ну, положим, уцелеешь. И что говорит Сумматор о нашем будущем?
– Я приехал не препираться отец, а просить совета. Сумматор показывает странное. Я провел миллиарды тестов. Перебрал сотни параметров.
– И?
– В основном – неопределенность.
– Ты приехал не препираться, ты приехал голову мне морочить. Выпьем. За неопределенность!
– Я сказал – в основном.
– То есть не всегда? Так бывает? Ну, значит, есть человек, с которым она может прыгнуть, и мир устоит. И можно вычислить, что это ты? Вообще, можно вычислить этого человека?! Что за бред!
– Я решил задачу в общем виде. Таких людей не существует.
Карнаухов крякнул, поднял очередной бокал, заглянул в потухшие глаза сына.
– Парадокс… – медленно произнес он, так же медленно выцедил бокал и зажмурился. – А что, если никакого парадокса нет?
Помолчали. Наконец Сергей Владимирович открыл глаза и заявил прямо в лицо Вадиму:
– А ты все-таки болван, сын мой. Но я тебя все равно люблю. Не понял? Логику включи. Если есть решение, но решение не подразумевает в качестве переменной участие человека, значит… значит… ну?
Вадим хлопнул себя по лбу.
– Я отправляюсь пересчитывать!
– Да не забудь учесть, что у нее с Таней будет полная ментальная сопряженность! – только и успел крикнуть вослед Карнаухов.
После чего опустился грудью на столешницу и немедленно захрапел.
Ночь пахла степью – полынными травами и пыльным, не успевшим толком остыть за жаркий день воздухом. Поселок, большой, на несколько сот дворов, наверное, в темноте не определить – казался полумертвым. Шагах в пятистах, в свете месяца, отблескивал купол немаленькой, по сельским меркам, церкви.
Таня и Асель хоронились в проулке между двумя опрятными кирпичными домами, с палисадниками, с уходившими во мглу с задних дворов огородами, в сени раскидистого ореха. Орех нагло игнорировал невысокий, кирпичный же забор.
– Эх, знать бы, куда угодили… – прошептала Татьяна. – А главное – когда…
Она видела, что время если не совсем сорок первый год, то близкое – никаких особых чудес заприметить не удалось. Разве только на крышах домов торчали антенны, а среди них – диковинные белые тарелки, которые тоже смутно представлялись Тане антеннами, но особыми, ничего похожего в радиотехникуме не проходили… Но это не беда. Поселок мало отличался от того, откуда ее «эвакуировали». И на том спасибо.
– Это знание могло сказаться на состоянии причинно-следственного… – терпеливо, верно, не в первый раз начала излагать Асель.
– Да слышала я! – отмахнулась Таня. – Лабуда все это. А ну, как немцы в селе? Выстрелы слышала?
И вправду, пока они отсиживались, темноту пару раз рассекали короткие очереди. А уж «ППШ» или «шмайссер» – того Тане не разобрать. Да на севере гремело и ухало – тяжелая артиллерия не иначе. Нет, они – на войне, факт.
Асель выпрямилась, заглянула за забор. Одета бывшая домоправительница теперь была в сплошной темно-серый комбинезон, но не обтягивающий, как испытательский Вадима, а просторнее и со множеством карманов. Одно сходство – непонятно, как снимать-надевать. Из прежнего гардероба осталось лишь украшение – нить черного жемчуга. Впрочем, тоже заправлена за ворот комбинезона. Волосы стянуты вокруг головы тугим узлом. Тане соорудили сарафан и сандалеты наподобие тех, в которых она покинула сорок первый год – если что, сойдет за местную.
– Чего там? А? – прошептала Татьяна.
Асель сделала знак – поднимайся.
В доме скрипнула входная дверь, скрипнули половицы, на порог упало пятно света из прихожей: на двор вышла пожилая женщина, постояла, прислушиваясь, и, кутаясь в платок, направилась к удобствам на заднем дворе – то есть просто мимо возвращенок, так решила именовать Таня себя и Асель.
– Бабуль, переночевать не пустишь?
– Ох, Господи Иисусе, – бабуля аж за сердце схватилась, – разве ж можно так людей пугать? Девоньки… Та вы звидкиля?
– В хате кто чужой есть? – спросила Таня.
– Фашисты, штоль? Нема. Они тут сразу, как зашли, так по хатам все повыносили: гроши, мобильники, у кого золото какое було… Давайте тишком до калитки, открою. Я да дед мой остались, невестка с племянником до наших втекли, дай им бог… А вы-то из Луганска идете?
– Из Луганска, – согласилась Таня, уже заходя в сени.
– Как наши-то – держатся? А то ж чую – и бахае, и бахае… Леша, просыпайся, тут гости у нас. Ох, девчата, та вы ж, мабуть, голодные…
Таня не ответила – в комнате загорелся свет. На стене висел большой перекидной календарь, и на календаре значилось – август две тысячи четырнадцатого.