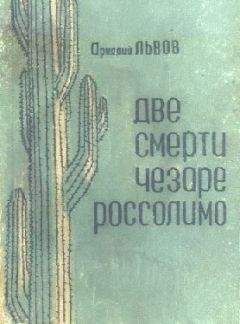— Дорогая, если вы настаиваете…
— Я не настаиваю, но такой энергичный отказ…
— Что вы, дорогая, — встрепенулась приятельница сотрудника лаборатории, — я, кстати, сама хотела предложить вам это знакомство. Уверена, он тоже будет очень-очень рад.
— Ну, — покорно улыбнулась ее спутница, — если это может доставить ему радость, с моей стороны было бы просто бестактно отказываться.
— Дорогая, поверьте, это уже совершенно ни к чему: в конце концов, никакой дилеммы нет — вы непременно, вы обязательно должны познакомиться, только время надо выбрать.
— Сегодня у меня, кстати, свободный вечер, но так, невзначай…
— Что вы, — воскликнула приятельница ученого, — это будет для него таким сюрпризом! Но если вы предпочитаете другой день, пусть даже на следующей неделе, или, если надо, в будущий ваш приезд… Не стоит, говорите, откладывать, потому что отсрочка только стеснит меня? Пожалуй, вы правы: лучше это сделать прямо сегодня. Сейчас.
— В десяти шагах отсюда телефон: мы только что миновали его.
— Телефон не нужен, дорогая: у меня в сумочке рация. Алло, милый! Да, это я, я…
— Если можно, чуть погромче — мне хотелось бы услышать его голос.
— Пожалуйста. Нет, это не тебе. Здесь одна моя приятельница — я очень-очень хотела бы познакомить вас. Не надо, не надо благодарить меня — я знаю, что ты всегда рад угодить мне. Лови поцелуйчик.
Они не видят меня, думал он, я для них физическая величина, которой можно пренебречь. А собственно, возразил он себе, почему пренебречь? Просто у них свои дела, и они занимаются этими своими делами, которые касаются только троих. Им тоже не слишком легко, во всяком случае, одной из них. Да, но их трое…
А Тим со своей мамой уже сидят в «Атлантиде» и едят лучшее в городе фирменное мороженое под лучами полуденного солнца, которое почти как настоящее. А потом Тим будет плавать в бассейне, потому что радости жизни — прежде всего для детей. И там, в бассейне, он будет играть в волейбол с тюленем, который тоже еще ребенок и умеет по-настоящему радоваться.
Толпа несла его с прежней силой, но теперь у него появилось нелепое ощущение скафандра, плотно, будто натянутая резина, облегающего тело. Прикосновения и толчки воспринимались как пространственно удаленные, пропущенные через амортизирующую среду. Эти ощущения были предвестниками отчаяния, которое, вопреки всякой логике, сочеталось с предельной инертностью и безразличием, нисколько не влияя на них и не подвергаясь никакому воздействию с их стороны.
Белка в своем беличьем колесе развивала бешеную скорость, но ленивец, который взбирался на дерево рядом, доводил до безумия своей медлительностью.
Что же это, хотелось ему крикнуть, что! Стяните с меня проклятый скафандр, дайте мне свою силу, немножечко своей силы, люди! Хотя нет, разве они не дают мне своей силы? Ведь это я не могу сделать их силу своей — раньше мог, а теперь не могу. Они дарят мне свою силу, как прежде, а я не могу принять ее, потому что…
Он не знал, почему — он знал только, что так бывает, но почему так бывает, он не знал. Когда ему было хорошо, он спокойно и уверенно работал: сначала объемное и ароматическое телевидение, потом телевизионные фантомы, которые почти как настоящие живые люди потом…
У него были еще какие-то планы, но теперь они потеряли смысл, эти планы, и он забыл их. Совершенно забыл, как будто их никогда и не было.
На проспекте Эйнштейна зажглись огни. Невидимый жонглер перебрасывал огни с этажа на этаж, с дома на дом, с левой стороны проспекта на правую. Вечернее небо над человеческими головами пронизывалось беззвучными молниями, которые пробегали стремительно, как энцефалограммы на экране гигантского кинескопа. Мерцающий силуэт девушки с прямыми плечами и непомерно вытянутой талией призывно протягивал руки — когда руки воздевались к небу, было понятно, что девушка ждет солнца. Потом девушка вдруг начинала дрожать, и в груди ее загоралось мерцающее алое сердце. Ритм сердца учащался с каждой секундой — оно уже не мерцало, а пламенело; девушка медленно, как будто против своей воли, отступала к стене дома, и было ясно, что с минуты на минуту ее настигнут. Но в то самое мгновение, когда она прижималась вплотную к дому и отступать было уже некуда, силуэт исчезал.
Спустя четверть минуты все повторялось сначала.
Прежде эта девушка, в страхе отступающая к стене, тревожила, его — тревожила и манила своей беззащитностью, которая пробуждала в нем ощущение его собственной силы. Он очень хорошо понимал, что все это игра с призраками, но ощущение силы было неподдельным, и он привязался к этой отступающей в страхе девушке.
Сегодня девушка не пробуждала в нем силы, сегодня она оставалась только тенью, и его воображение бессильно было вдохнуть в нее жизнь.
— Фантомы, фантомы, — твердил он про себя, — одни фантомы.
На площади «XX век» показывали световую панораму «Хиросима». Вчера он смотрел здесь панораму «Ковентри», а на прошлой неделе — «Напалм — оружие варваров». Рушились и горели города, люди в световых контурах, обезумевшие от ужаса, носились по улицам городов, ставших пеплом, зарывались и проваливались в землю, из которой дороги назад не было.
Сегодня он ничего не чувствовал — сегодня он только понимал: Хиросима — великая трагедия XX века.
Это ему объяснили еще в школе, и он запомнил это объяснение навсегда.
Толпа безостановочно несла его через площадь «XX век». Теперь, при искусственном освещении, человеческие лица приобрели ртутный оттенок, и в каждом из них было что-то от маски, безукоризненно облегающей живую человеческую голову. Даже гримасы этих лиц, казалось, стеснены масками и не так свободны, как днем, при свете солнца. Они жили своей жизнью, эти маски, и она представлялась ему такой же реальностью, как жизнь девушки с мерцающим сердцем, эту реальность можно было включать и выключать одним движением кисти, положенной на рубильник.
Потом люди, хотя сила их не убывала ни на мгновение, стали почему-то маленькими и далекими, будто к его глазам мгновенно, невидимо для него самого, приставили перевернутый бинокль. Голоса людей тоже стали далекими, отдельных слов он не воспринимал — только торопливый, напряженный шепот, который временами переходил в тяжелый, как из-под земли, гул.
Он очнулся на Франсуа Вийона — тихой окраинной улице, в полукилометре от лимана, с которого подымался гнилостный запах разлагающихся в воде трав и камыша. Чтобы прийти сюда, надо было пересечь двенадцать других улиц — он не выбирал маршрута, он очнулся на улице Франсуа Вийона, и ни одна из тех других двенадцати, пересеченных им, не оставила следа в его памяти.