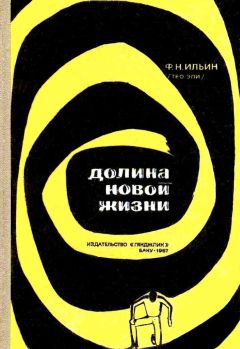Мартини толкнул меня в бок, шепча:
— Вы понимаете? Тардье подкупили. Он позволил скрыть те скверные результаты, о которых говорил мне в частной беседе. Этого от него я никогда не ожидал.
Доклады Денвуда и Тардье были мало интересными — почти голый перечень цифр. Причем я считаю нужным заметить здесь, что и приведенные мною ранее цифры не могут отличаться точностью. Эти доклады заняли очень много времени, и я облегченно вздохнул, когда заседание окончилось. Президиум оставался сидеть за столом, а публика покидала обширный кабинет Куинслея.
Было уже темно, насколько может быть применимо это слово к прекрасно освещенному Главному городу.
Я, Мартини и Фишер задержались у подъезда. Нам то и дело приходилось раскланиваться с проходившими мимо знакомыми. К нам подошел Тардье. Он чувствовал себя, как мне казалось, не совсем приятно; здороваясь, он ни разу не посмотрел нам в глаза. Он был словно в каком-то замешательстве. Он произнес как бы в свое оправдание:
— Ради политических соображений иногда приходится поступаться истиной. Нам, людям узкого горизонта, не всегда видно то, что видят люди, стоящие на вершине.
Мы молчали в ответ, не находя подходящих слов. Только Фишер сказал:
— Конечно, не всегда можно сказать правду.
Когда Тардье удалился, Мартини разразился пылкой филиппикой против Куинслея. Мы отошли с дороги в глубину сада и стояли здесь посреди аллеи, как заговорщики.
— Подумайте только: одного утопить ради собственного спасения, другого похвалить, чтобы лишний раз подчеркнуть свои успехи, подтасовать цифры, затемнить выводы, — это называется политика. Новый мир управляется по старым рецептам! Тогда, спрашивается, черт возьми, стоило ли огород городить?
Я осведомился:
— Неужели то, что нам ясно, не ясно другим?
— Многим умеющим критически мыслить, конечно, ясно, но большинство чужеземцев и все здешние находятся под таким обаянием личности Куинслея, что верят каждому его слову. Нет, если старик умрет, мы здесь не можем оставаться: или надо бежать, или сделаться рабом Макса.
— Старик может умереть в любой день, — заметил Фишер.
— Ценность научной работы, если результатами ее жонглируют для личных целей, пропадет. Макс становится аморальным.
На дорожке показалась фигура одинокого человека, медленно идущего к нам. Мы перевели разговор на какую-то ничего не значащую тему. Предосторожность была не напрасна: это был Петровский. Мы старались не касаться волнующего его вопроса и заговорили о чисто семейных делах. Петровский не уходил, но и не принимал участия в разговоре. По-видимому, мысль его бродила где-то далеко. Фишер обратился к нему:
— Я попрошу вас приехать к нам, вы совсем нас забыли; дети постоянно спрашивают, почему не едет дядя Петровский.
— Благодарю вас, я приеду.
После паузы он добавил.
— Можно ли жить, когда вера утеряна?
— Какая вера и во что вера? — спросил Мартини. — Для меня единственная вера — вера в науку, а она никогда не может быть утеряна.
Петровский угрюмо произнес:
— Вера в людей.
Мартини выразительно свистнул.
— На ненадежном фундаменте не надо строить здания; я всегда считал, что вы большой идеалист.
— Я всегда верил в людей, — вмешался Фишер, — и всегда в них разочаровывался.
— Тогда вы не логичны, — прервал Мартини, — вы не делаете надлежащего вывода.
Петровский сказал глухим голосом:
— Иногда нельзя полагаться и на науку: она может подвести, а это стоит десятков тысяч жизней.
Вдруг он схватился обеими руками за голову и закачался как будто от зубной боли.
Мы стояли, опешив от этого внезапного приступа отчаяния.
Петровский не произнес более ни слова и, шатаясь, пошел дальше.
— Несчастный, он ужасно мучится, — сказал я, — мне всегда очень жаль его; это добрый, симпатичный человек.
— Неврастеник, — бросил Мартини.
— Я боюсь за него, — добавил Фишер.
Мы решили зайти в местный клуб для иностранцев, чтобы немного перекусить, а, главное, выпить, так как у нас после обеда не было во рту ни росинки, а между тем вечер выдался жаркий и душный. Мне кажется, нам не хотелось расходиться.
В клубе мы увидели Петровского: он сидел за отдельным столиком и с мрачным видом глотал коньяк — рюмку за рюмкой, не закусывая.
Разговор наш незаметно возвратился к Тардье. Мартини пояснил:
— Он будет назначен заместителем члена правительства; это самый высокий пост, которого может достигнуть иностранец. Фактически он будет членом правительства.
— Я не понимаю, — спросил я, — какие это дает ему преимущества? В этой стране каждому дается все, что соответствует степени его умственного развития, и на самом деле все получают то, в чем они нуждаются, почти без всяких ограничений. Какие же могут быть побудительные причины лезть вперед по ступеням чиновной иерархии?
— Привычка, принесенная сюда из старого мира. Я знаю, Тардье и там славился как карьерист.
— Значит, надо согласиться, что мы не можем избавиться от приобретенных нами навыков, в какую бы новую обстановку нас ни поставили, — сказал я.
Мартини опорожнил свой стакан с коктейлем и, нагнувшись ко мне совсем близко, выпучив свои черные глаза, как он это всегда делал, когда хотел сказать что-нибудь важное, зашептал:
— Лучше иметь дурные навыки, чем никуда не годную кровеносную систему и ограниченный мозг.
Фишер толкнул его под локоть и строго произнес:
— Не шепчитесь. Зачем навлекать на себя подозрения?
Петровский в это время встал и неверными шагами проследовал мимо, не замечая нас или не желая нас видеть.
Судьба распорядилась так, что Чарльз Чартней сделался для меня печальным вестником. В этот день я дольше обыкновенного провозился в своей мастерской. Я заканчивал установку одного нового приспособления, которое усиливало мощность водоотливных насосов. Когда я кончил, в окна уже смотрели сумерки. Я решил зайти к Чартнею. Я знал, что в эти часы он бывает дома.
Чартней встретил меня очень радушно, и мы выпили по стакану виски с содой. Слуга поставил передо мною прибор и вытащил из шкафчика в стене свежую порцию блюда, полученную только что из клуба по трубе.
— Каковы события последнего времени? — спросил Чартней.
— Очень печальные, — ответил я.
— Я люблю движение воды, стоячая вода вызывает болезни.
В этот момент он поднял кверху руку, как бы приглашая меня прислушаться. Я понял и отодвинул кнопку предохранителя.
«Вильям Куинслей скончался», — запечатлелось у меня в мозгу. «Вильям Куинслей скончался», — эти слова стояли в моей голове, вытесняя оттуда все прочие мысли. Потом я начал воспринимать дальнейшее: «Он умер в 5 ч. 55 минут пополудни от паралича сердца. Состояние его здоровья уже давно было признано опасным, и ему была предложена операция — вшивание нового сердца, но он отказался и таким образом шел на верную, близкую смерть». Из биографических сведений сообщалась, что ему было девяносто четыре года, что он родился в штате Колорадо, получил блестящее образование в Европе и Америке. Далее говорилось, что он получил от своего отца большой капитал и увеличил его добычей золота и разведением кофейных плантаций в Бразилии. Будучи миллиардером, он всегда оставался ученым и постоянным меценатом науки и искусства, а также явным и скрытым революционером. При его материальной помощи начинались волнения и совершались почти все восстания и перевороты за последние сорок лет. Больше всего его занимала идея переустройства духовного мира человека, а вместе с тем и его физической природы, поскольку последняя влияет на психику. Умер замечательный человек, высокой души и несравненных талантов. Смерть его будет оплакиваться всеми жителями Долины… Но светоч науки, зажженный им, не погаснет, умелые руки понесут его через весь мир и раздуют в громадное пламя…»