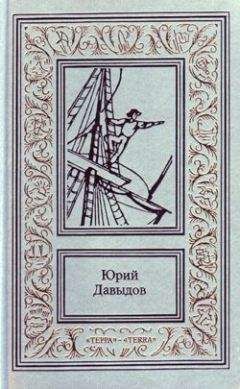И тут его захлестнула волна жалкого, щемящего отчаянья. И даже не потому, что его молодое, упругое тело, чье совершенство было естественным и привычным настолько, что даже не возникало сомнения в низменности этого совершенства,даже не потому, что это тело в какие-то доли секунды превратилось в подрагивающий комок неуправляемой биомассы; в конце концов, на то и существуют суперврачи вроде Сиднея Дж. Уэды с их суперклиниками, чтобы поставить на ноги любую человеческую развалину. Но ведь именно тогда, когда венец природы становится развалиной, перед ним с каким-то утонченным, садистским злорадством подымается на своем тонком гадючьем хвостике непрошеный вопрос: ну и кому же теперь ты нужен - вот такой? Нет, не через две недели, снова вынянченный и доведенный до богоподобного совершенства, а именно такой, теперешний, во всем непотребстве своей беспомощности,- кому?
Он пытался бороться с этим наваждением, силился вскрыть панцирную корку, укрывающую пеструю свалку его памяти. Но мозаичные искрящиеся осколки мелких побед были надежно сцементированы холодным любопытством и свинским равнодушием. Он знал, что где-то там, в глубине, еще теплятся солнечные зайчики, чьи контуры четки и оттенки незамутнены,- воспоминания той неправдоподобной поры, когда все самое святое и прекрасное бесшабашно зашвыривалось в угол, "на потом". А когда наступило-таки это "потом", само собой оказалось, что щенячья жадность плюс мальчишеская боязнь стабилизированных отношений уже переросли в постоянно действующий синдром одиночества. Одиночества? Нет! Нет!!! Господи несуществующий, всю жизнь можно сладострастно и словоблудно алкать великомученичества, но когда тебя действительно поволокут на костер или к проруби,- нет! Не-е-ет!..
Спокойные, внимательные глаза приближаются к нему. Вот все, что теперь ему отпущено,- доброта, предписанная клятвой Гиппократа. Доброта одной из тысяч сестер к одном из миллионов пациентов. Доброта, у которой вместо лица стерильная маска.
- Маска... Да снимите же маску...
Он никогда не думал, что едва заметное движение губ может отнять столько сил. Кресло мягко проваливается куда-то в дымную, дурнотную глубину, и в этом лиловом мареве каменеют над ним сотни неестественно выпрямившихся ледяных фигур, и сотни глаз, не мигая, вперились в него, и сотни маревых масок падают, падают, падают, падают шелестящим снеговым роем, и сотни лиц... Лицо. Замирающее от страха быть неузнанным, милое, единственное, любимое лицо.
И чудо появления этого лица именно сейчас, в миг самого страшного и непереносимого в жизни отчаянья.
И только после этого - имя.
С радостной, поспешной готовностью его память отдавала настоящему все чудом сбереженные крохи прошлого - и тот дождливый, неприкаянный вечер провалившихся с треском школьных каникул, и ступени пологой лестницы, на которой их кто-то познакомил, и бестолковая суета недоодетых и недогримированных мальчишек и девчонок - неразбериха, предшествующая любительскому и заранее обреченному спектаклю; и ее лицо во втором ряду недетское спокойное лицо, которое он потом с такой страстной яростью клял, боясь увидеть еще раз, и обожествлял, разыскивая всю оставшуюся жизнь.
Но так и не увидел больше ни разу.
Он научился лгать самому себе, говоря, что это была лишь случайная встреча, четырнадцать лет назад задевшая его самолюбие. Но сейчас то, что они встретились снова, не могло быть простым случаем - это было волшебство, и не поверить в него было бы смертным, непоправимым грехом. И он знал, что никогда не совершит этого греха, ибо не расстанется с этой женщиной ни на день, ни на час, ни на миг. И если на их пути встанет смерть,- он не переживет эту женщину.
Ни на день, ни на час, ни на миг.
Эта мысль не выросла из воспоминаний и не пришла вслед за ними,- нет, она существовала с самого начала, с момента пробуждения, а может быть, и ранее; быть может неосознанная и неоформившаяся, она возникла в его мозгу как раз четырнадцать лет назад, и только ждала этой встречи, неминуемой, как возмездие, ибо если на земле извечно существовал закон бытия, карающий горем за зло, так должен же был, в противовес ему, существовать другой, по которому за однажды принесенную великую радость воздавалось счастьем...
Эта мысль еще не успела выпасть четким кристалликами слов из того первичного вне словесного хаоса ощущений и понятий, который предшествует подобной кристаллизации,- как он уже устыдился и ужаснулся этой мысли, ибо она принадлежала прежнему Арсиньегасу, еще не пережившему это пробуждение, еще не задыхавшемуся при виде этого удивительного любимого лица, сбереженного его памятью за полтора десятилетия. И он смел подумать, что тогда, в каникулы великих дождей, он принес ей радость! Ах ты, мелкий бонвиван, кавалер Фоблас космического века! Спору нет, бывало - облагодетельствовал своим вниманием несколько десятков разнокалиберных дурочек. Бывало. Доставлял им "радость великую" - величины, правда, самой разнообразной, от нежных бесед и до... Вот именно, до. И включая. И сохранил, укоренил в своей памяти это хамское, самовлюбленное чувство "приношения радости".
И вот теперь этими нечистыми лапами воспоминаний, обмаранный фобласовской терминологией, он влез в дождливое лето неудачных каникул... Как посмел он подумать, что она, эта девочка из второго ряда полутемного школьного зала, девочка с загадочными глазами древних королей,- что она радовалась его вниманию, что она вообще помнила все четырнадцать лет?
Он сделал над собой усилие, чтобы прогнать мучившие его слабость и дурноту и понять наконец, кем стала для него эта женщина-и кем может стать для нее он? И понял одно: она тоже ждала его и любила все эти годы. Все четырнадцать лет. И опять-таки это не было следствием рассуждений или воспоминаний - это было так, словно с момента пробуждения где-то на внутренних стенках его души уже было написано огненными буквами: "Она любила меня..." И теперь ему оставалось только сосредоточиться, внутренне прищуриться - и прочесть эту надпись.
Вероятно, он и в самом деле прищурился, потому что лицо, застывшее перед ним, вдруг стало удивительно четким, реальным; и, вглядевшись в это лицо, он только сейчас понял, что она ждет чего-то, ждет именно от него, а так как он не знал, чего же ей от него нужно, он решил рассказать ей обо всем, что он вспомнил и передумал за эти минуты, но сил не было, и все, что он только в силах был сделать - это прошептать ее имя: "Сарри... Сарри Сааринен..."
Но это как раз и было то, что она ждала, ждала так, что покачнулась, и ему показалось - она падает навзничь, а у него не было сил, чтобы броситься к ней; но она не упала, а наоборот - стремительно рванулась к нему, и не обняла схватила за плечи, как хватают ребенка, который чуть было не упал в колодец