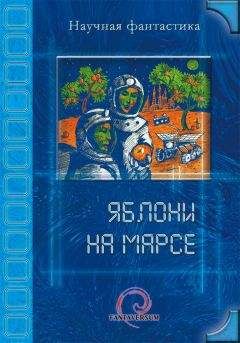- Да что ж вы делаете, ироды! - закричала она сильным, чуть хрипловатым от натуги, яростным голосом и все надвигалась на этого солдата, который растерялся и стал отступать к забору, - Как вы Христу то в лицо смотреть будете, ироды?! Звери, подонки...!
Офицер, который только что тряс Ивана повернулся к этому теснимому женщиной, растерявшемуся солдату и выкрикнул ему что-то. Солдат метнул на офицера быстрый взгляд и тогда лицо его распрямилось - от неуверенности и испуга не осталось больше и следа: ведь он услышал голос своего начальника, тот ясно сказал ему, что делать с этой женщиной - ну а раз так сказал начальник, значит так и должно быть, значит и никаких сомнений не должно быть. И ему даже стыдно стало за свою растерянность, и то, что он сотворил дальше он сотворил старательно, зная, что офицер следит за его действиями...
Он поднял винтовку и закрепленным на ней, окровавленным уже штыком с силой ударил... он намеривался проткнуть младенца, которого она несла, но женщина успела прикрыть его рукой... Удар был так силен, что штык пронзил насквозь и руку и младенца и неглубоко еще вошел ей в грудь... Младенец вскрикнул, дернулся, а фашист уже выдернул резко штык и ударил ее во второй раз в живот...
У Ивана потемнело все перед глазами и он, заорав как раненный волк, бросился на этого солдата, и обрушился на него, когда тот выдергивал штык из тела безумно вопящей женщины. Иван ударил его со всей силу кулаком по черепу и, почувствовав как звериная ярость растет в нем, все бил и бил его со всего размаха по голове, не думая уже ни о чем, зная просто, что если он не будет его бить, то сойдет с ума и перегрызет всем глотки...
- Ну не стреляйте! - торопливо визжал где-то Свирид, - он шофер, слышите, слышите - он шофер! Ну побейте его, но только не убивайте, ладно? Одно шофер, слышите, слышите - он шофер!
Ивана били прикладами, но, как ему показалось несильно, во всяком случае он почти не чувствовал боли, и даже когда, что-то хрустнуло у него в колене, не почувствовал он ничего...
Детские вопли заполнили собой все пространство, всю вселенную, все мировозздание; и в этой адской, созданной человеком, душной и кровавой маленькой вселенной райским перезвоном звучал, колеблясь как маятник часов, безумный визг, трясущего его Свирида:
- Иван! Ну дурак ты что ли, Иван-а-а! Дурак ты что ли - они ведь твою женку убьют, я же говорю - не смотри ты на это, а?! Не смотри - а?! Иван, ну отвези им машину и все - и тогда все живы будут, я прошу тебя, ну что тебе стоит, ну не надо только больше! Иван, а то совсем плохо будет! Женку то и детей ведь убить могут, ты о них подумай - ведь убить их могут!
Ивана еще раз ударили прикладом в плечо и он увидел красное, разъяренное и окровавленное лицо того солдата... он размахнулся винтовкой еще раз, метя Ивану в лицо, но его подхватили другие солдаты и оттащили с трудом в сторону.
В застилаемом кровью и пылью, полным воплей дворике, появился жердь-переводчик. Он, широко размахивая руками и ногами, подошел к Ивану и, слегка склонившись над ним без выражения, слегка раздраженно заговорил:
- Ти не будешь слушаться - будешь дра-ятся тьебе капут! Бабе капут, дьетем капут, ти поняль?
- Иван, Иван Петрович, ну что же вы!
Иван так резко, что отдалось рвущемся разрывом, повернул голову, и увидел окровавленную груду плоти, истыканную штыками и еще разорванную пулями, перед которой стоял на коленях и пронзительно рыдал двенадцатилетний мальчонка. И вспомнился тогда ему Сашка - он ведь был одного с этим мальчиком возраста...
- Я повезу... я сделаю все что вам нужно, - захрипел он опять захлебываясь кровью, которая шла из его разбитых десен.
Переводчик-жердь все еще возвышался над ним и поглядывал с сомнением на Ивана. И тогда Ивану страшно стало от мысли, что он, избитый, может показаться ненужным и слабым, что его попросту пристрелят на этом кровавом дворе, а семью... Вновь в голове его забабахал молот и он вскочил на ноги и стараясь выдавить из себя ровный и сильный голос проговорил:
- Я готов выполнить ваши приказания!
Ему ужасно хотелось ударить со всего размаха в это лоснящееся от пота, самодовольное лицо, и он бы сделал это - существование, стало для него невыносимо мучительным, и быстрая (быть может) смерть, которая последовала бы за этим ударом, казалась ему лучшим выходом... Но он помнил о своей семье: о Марье, с ее горячими локонами и юным еще голосом, о Сашке, который считал своего отца самым отважным, героическим человеком на свете и наконец Ирочку с ее глубокими, светлыми глазками - только память о них давала ему сил, говорить то, что он говорил. Глаза его правда выдавали - они говорили совсем другое, они вцеплялись в горло этой "жерди" - он его рвал в клочья своим взглядом.
Но "жердь" то ли не заметил этого, то ли ему это было безразлично. Он кивнул, и сказал несколько слов, стоящему рядом обтирающему лоб офицеру тот ткнул Ивана в спину дулом револьвера и жестом велел идти к издающему пронзительные, острые вопли детей и матерей грузовику. Их уже напихали в кузов, а на бортик уселись двое упитанных солдат, жующих яблоки и лениво, разморено спорящих о чем-то друг с другом...
Стараясь идти прямо, не качаясь Иван, чувствуя въевшееся в спину острое дуло, зашагал к грузовику. Где-то под ухом все суетился Свирид и без умолку, совсем уже истерично и быстро тараторил о том, что Иван не должен сидеть дома, а работать для новых "господ". Потом он стремительно стал жаловаться на одиночество и просить чтобы ему дозволили поехать с Иваном - он бросился с этой слезной просьбой к жерди-переводчику, но тот оттолкнул его брезгливо и сказал несколько выученных матерных ругательств.
А Иван все шел, сжав зубы, стараясь не сойти с ума в оглушительном океане адских звуков... Эти детские полные мольбы вопли; хрипы и проклятия матерей; вопли и стоны раненных; и наконец чудовищный, безумный и непрерывный вопль того, сошедшего с ума, распятого на заборе... Все руки и ноги его были уже пробиты гвоздями и весь забор и земля под ним была густо залита завертывающейся слоями кровью. Ему как раз вбивали в предплечье здоровый чуть погнутый гвоздь, и по вызывающем рвоту лицам палачей можно было судить, что они разъярены до предела, что им хочется еще долго-долго вымещать так свою ярость, до тех пор, быть может, пока они не рухнут от потери сил. Раздавался сухой пронзительный треск дробящейся кости...
И еще один звук был - соловушка, гнездо которой спряталось в листве одного из тополей, кружила в ярких лучах, над густыми клубами пыли и старалась, выплескивала из себя яркие, заливчатые трели - она волновалась за своих малышей тревожно чирикающих в гнезде и отвлекала внимание на себя. Правда ни на нее - порхающую ярким пушистым комочком над головами, ни на ее детишек никто во дворе не обращал внимания. Столпившиеся там человекоподобные особи были поглощены иными делами - делами недоступными для понимания животных...