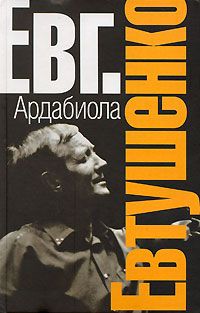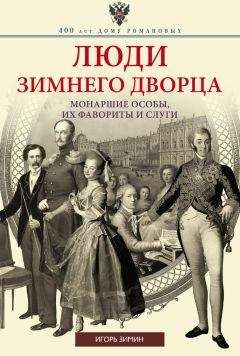— Не нужна… — засмеялся Ардабьев и обратился к девушке: — Вот видите, надо было нам вторую бутылку распить в честь бабушки…
— Я и обождать могу… — с готовностью сказала старушка. — Куда мне спешить-то?
— Послезавтра, бабушка, — пообещал Ардабьев. — Послезавтра на это же самое место я привезу много пустых бутылок.
Старушка благодарственно, однако не без сомнения закивала и заковыляла дальше, шевеля кусты палкой.
Девушка, словно по-прежнему не желая, чтобы Ардабьев смотрел ей в глаза, повернулась лицом к каналу. Ардабьев увидел, что часть ее прямых светлых волос на затылке забрана вверх, под кепку, а часть свободно льется вниз, падая на плечи. Под самым ободком кепки на затылке образовалась линия разлома волос, и точно на этой линии проступила темная родинка, такая же, как на ее шее. Толстяка с зеркалом рядом не было, и Ардабьев не мог видеть лица девушки. Но читать можно не только по лицу, но и по спине. Спина была измученная. Спина слушала, но думала о чем-то своем, о чем не хотела думать.
— Дальше, — требовательно сказала девушка. — Не молчите.
— У отца снова начались боли в груди. Он прилетел в Москву. Впервые я увидел его мрачным, мнительным. Я положил его на Каширку. Жидкость из груди откачали, начали химиотерапию, облучение, но сказали, что дело безнадежное. Метастаз на метастазе. Я забрал отца домой. Я рассказал отцу про муху цеце, про федюнник, про Аллу. Я объяснил ему, что это риск. Он согласился. У меня осталось только двенадцать плодов ардабиолы. Я давал их отцу по кусочкам и заваривал листья. Боли прекратились сразу. Волосы, прежде выпадавшие, начали расти. Через месяц снова сделали все анализы. Врачи своим глазам не поверили. Опухоль резервировалась…
— Что? — переспросила девушка.
— Рассосалась… Отец вернулся и теперь снова на электровозе. Но я держал язык за зубами. У меня не осталось ни одного плода. Я набрался терпения. Я подкармливал ардабиолу всеми на свете удобрениями. Вы держали в руках ее второй урожай. Сегодня с утра, еще до всех проклятых поросят, я поехал в институт органической химии, чтобы они сделали точный анализ ардабиолы. Если возможен химический аналог, то в руках у человечества сильнейшее противораковое оружие. Однако по закону подлости лаборатория сегодня закрыта. Все на картошке… Но какая разница — сегодня или завтра… Главное, что ардабиола есть!
Ардабьев вскочил с песка и вдруг закричал на весь берег, торжествующе размахивая руками:
— Ар-да-би-о-ла!
Пожилая пара, поспешно ссыпая яичную скорлупу в выдранный разворот «Огонька», боязливо направилась к своему уже высохшему «Запорожцу».
А рыбак с безнадежной удочкой и ухом не повел.
И вдруг Ардабьев увидел, что девушка в кепке как-то странно начала крениться набок. Лицо ее побелело.
— Что с вами? — бросился к ней Ардабьев. — Я что, замучил вас своими раковыми разговорами?
— Н-нет… — помотала головой девушка. — Мне плохо… Я сама виновата… Я ехала в больницу… Отвезите меня туда…
Растерянный Ардабьев подхватил ее под руки, усадил в пикап. Больница была рядом с той трамвайной остановкой, где девушка сошла часа два назад.
— Не надо меня провожать… — сказала девушка, поскрипывая от боли зубами.
Ардабьев, не слушаясь, довел ее до приемного покоя.
— Ишь, кепку напялила! — раздалось чье-то женское шипение в коридоре вослед девушке. — А сама уже с утра на ногах не держится! Ну и молодежь!
— Уходите, — сказала девушка Ардабьеву, потянув на себя ручку двери и пошатываясь.
— Кепку-то, кепку сними, бесстыдница! — дошипели ей в спину.
Ардабьев остался в коридоре, присев на скрипучий стул прямо в центре шипения. Оно прекратилось.
«Проклятая привычка шипеть. Даже в больнице… — думал Ардабьев. — А я тоже хорош… Разглагольствовал о спасении человечества, а сам не заметил, что рядом со мной плохо человеку. Нет, я заметил это еще там, в трамвайном окне… Поэтому я и поехал за трамваем… А потом забыл… Ушел в монолог…»
Через полчаса Ардабьев хотел было постучаться в дверь приемного покоя, но дверь сама распахнулась, и оттуда выкатилась кровать на колесиках. Из-под простыни высовывалось только лицо девушки, почти не отличавшееся от простыни по цвету, Веки девушки были сомкнуты, но слегка подрагивали. Кровать покатили по коридору, показавшемуся Ардабьеву бесконечным. Чья-то рука легла на плечо Ардабьеву. Перед ним стоял молодой врач с нелюбопытным и недружелюбным лицом.
— Ее привезли вы?
— Я, — подавленно ответил Ардабьев.
— Зайдите ко мне, — сказал врач.
Ардабьев вошел, и врач раскрыл регистрационную книгу, не пригласив его сесть.
— Что с ней? — спросил Ардабьев.
— Сильное кровотечение… — сказал врач. — Кто ей делал аборт?
— Не знаю… — пробормотал Ардабьев.
— Делал это коновал… Так можно искалечить человека, — уже враждебно сказал врач. — Она была почти без сознания, и я не смог ее зарегистрировать. Ее фамилия?..
— Не знаю… — опустил голову Ардабьев.
— Ну хотя бы имя-то знаете? Где она живет? Работает? Учится?
— Я ничего не знаю о ней… — не поднимал головы Ардабьев. — Я ее просто подвез…
Лицо врача осталось враждебно-недоверчивым. Он закрыл регистрационную книгу и встал, давая понять, что разговор закончен.
— Это не опасно? — не уходил Ардабьев.
— Ей сейчас делают переливание крови… Это все, что я могу вам сказать. — И недобро добавил: — Тем более что, по вашим словам, вы ее не знаете…
Выехав из больничного двора, Ардабьев вынужден был затормозить перед трамваем с тем же самым номером, но сквозь окно задней площадки на него взглянули не глаза девушки в кепке, а тревожные, спрашивающие что-то глаза худенького мальчика в пионерском галстуке, пытающегося читать и заслоняющего локтем книгу от навалившегося на него рулона чьих-то вьетнамских циновок.
«А вдруг этот мальчик — самый нужный сейчас человечеству человек, а вовсе не я? — подумал Ардабьев. — Вдруг он даст всем людям общую веру во что-то? Или изобретет антибомбу?»
Трамвай, всосав новых пассажиров, тронулся, а оранжевый пикап все еще стоял, пока сзади не раздался раздраженный сигнал.
Ардабьев взглянул в зеркальце: в бампер пикапа опять почти уперся мебельный фургон. Возможно, другой, но такой же по форме и, наверно, близкий по содержанию.
Глядя на величественно-гневное лицо мебельного шофера, негодующе высунувшегося из кабины фургона, Ардабьев горько усмехнулся: «А ведь он тоже уверен, что сейчас именно он самый нужный человечеству человек».
Машинист электровоза Ардабьев-старший раздевался в деповской душевой, открыв собственным ключом собственный шкафчик, на котором сорок лет была написана его фамилия. Его фамилия сохранялась четыре года на этом шкафчике и тогда, когда он ушел на фронт. От рабочей одежды шел особый, железнодорожный запах, состоявший из запахов смазки, смоленых шпал, таежного ветра и еще из чего-то, что не объяснишь. Ардабьев начинал на железной дороге смазчиком, таская вдоль букс масленку с вытянутой шеей, прозванную «гусем». Потом он стал кочегаром на «кукушке». Тогда спецовка пахла углем. Мельчайшие крупицы угля забивались в ноздри, в уши, в волосы, за ворот… Когда молодой кочегар, переодетый после работы в хромовые сапоги гармошкой с небрежным напуском брюк, в белоснежную сорочку с круглым воротничком, на запонках и в доставшийся от отца плисовый жилет с цепочкой карманных часов, шел на вечерку с такими же, как он, деповскими парнями и сплевывал с особым шиком сквозь зубы на деревянный скрипучий тротуар, то слюна все равно оставалась черной. Потом ввели электровозы, профессия кочегара исчезла, и работа машиниста стала чище, хотя и раньше считалась среди других железнодорожных профессий аристократической. Но по своему старому обычаю после рейса Ардабьев всегда парился, хотя прежних десяти грязей с него не сходило. Взяв из шкафчика заранее приготовленный березовый веник, Ардабьев сначала нырнул в парную, где в тумане вырисовывалось несколько голых фигур.