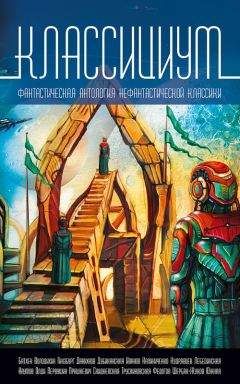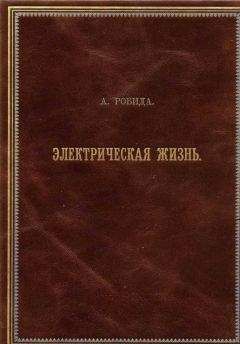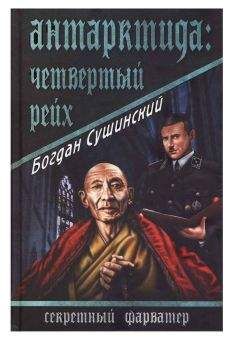Разумеется, Данин не собирался это обсуждать, но, из вежливости, всё же удивлённо выгнул бровь.
– Уверяю вас, – подтвердил Колокольников и бросил в зал ещё один быстрый взгляд. – Сегодня поразительно мало знакомых лиц. Вам не кажется, что запрет на курение может повлиять на здешние цены? Было бы неплохо.
Данин вновь отделался слабой гримасой.
– Послушайте, дружище, – берясь за салфетку костистыми пальцами и поднося её к губам, с досадой сказал Колокольников. – Я замечаю, что вы находитесь в состоянии душевной тоски какой-то, муки. Не найти ли вам хорошего врача? Впрочем, запомните, от всех бед поможет рюмочка-другая. И при отравлении, и при ипохондрии они равно полезны. Напрасно вы не пьёте.
– Не люблю, – сухо ответил Данин, вконец утомлённый его болтовнёй и назойливым вниманием.
– Ну-у… Как будто вы и не русский вовсе. – В вальяжном голосе Колокольникова открыто звучало разочарование, что ещё больше рассердило Данина. – Позвольте, я дам вам один совет? Полагаю, вы в нём нуждаетесь. Когда русскому тяжело, он не жмётся по углам, не сворачивается, как вы, крендельком засохшим. Он грудь-то расправит и через слёзы смеётся, вот, мол, я какой, давит меня злодейка-судьба, а я живучий, ничего мне не делается! Вы, Пётр Андреич, сейчас водки примите, не занюхивая, как говорится, потому как уже прилично покушали, а потом на улицу выйдите, в ночь, в дождь, в мерзость эту слякотную, безбожную, да и снимите ботинки. Да-да. И по лужам, без ботинок-то, вдарьте. Для адреналину. Да ещё посвистите, громко так, безобразно. Свистеть умеете?
С ума сошёл, думал Данин, боясь смотреть на Колокольникова и оттого не поднимая глаз. Как есть, рехнулся.
– Пару витрин расколошматьте по дороге – это непременно! одним ботинком и вторым! – чтоб забрали в отделение да и впендюрили вам штраф и общественное порицание. Вот тогда ваши беды по-другому заиграют. Будет вам в вашей сытой, до отвращения скучной жизни разнообразие и счастье. А так, как вы сейчас сидите, с постным лицом, на все пуговицы застёгнутый до подбородка – так вы свою жизнь угробите, помяните моё слово. Помрёте в тёплых носках у камина. С газетой.
Данин молча встал. Хотел всё же что-то сказать, но встретил цепкий, сочувственный взгляд Колокольникова и почему-то смутился от этого сочувствия. Покачался, привстав и упершись кончиками пальцев в крахмальную скатерть безупречной белизны, и вдруг его ноги подломились, будто кто пнул под коленку, и он медленно сел на стул.
– Вот и славно, – сказал Колокольников. – Официант! Водки.
Утро выдалось радостное, бледно-голубое. Солнце высушило мокрые стекла и послало в спальню Данина армию солнечных зайчиков. Он проснулся мокрый от пота, с головной болью и, морщась, наблюдал, как резвые блики прыгали с высокого окна на паркет, а оттуда на потолок и обратно. Только что, в образе восточного невольника в изношенном халате и стоптанных чувяках, он в полном одиночестве мостил над пропастью предлинную дорогу, истончающуюся за поворотом скалы. Была предзакатная пора, час с какой-то особенной, установившейся тишиной, звяканье молотка и зубила слышалось в ней особенно отчетливо. Обтесав камень, Данин утверждал его на каменную тропу. Занятие столь же необходимое, сколь и бессмысленное – класть твёрдое на твёрдое. К чему, зачем? Скоро ночь падёт на молчаливые горы, но он будет работать и в темноте, на ощупь, сбитыми в кровь руками. Тело истерзано многодневным трудом, каждая жилка трепещет и едва не рвётся, но иной стези нет, а раб дороги ещё в самом начале пути… Сон был ярким и оттого особенно страшным, из тех, что кажутся воспоминаниями о прошлом, или проникновением в будущее, за гробовую черту, откуда ещё никто не возвращался. Такими снами, как тайной, Данин не хотел делиться даже со своим психоаналитиком, хотя тот и намекал на возможность подобных сновидений. Этот травмирующий опыт принадлежал ему одному.
Вспомнив сон, Данин вспомнил и другое, до тонкостей восстановил в памяти вчерашний ресторанный разговор. Эх, Колокольников, змей ты искуситель… У него мелко и противно задрожало внутри. И понеслось, как обвал в горах. Память, несмотря на серьёзные пробелы, подсказывала невозможные, стыдные подробности прогулки по ночному Берлину, и всё больше в звуках, нежели в красках и образах. В ушах зазвенело расколоченное стекло, раздались испуганные крики и чей-то смех, и ошеломляющий, как гудок паровоза, полицейский свисток. Волком в ночи выла сирена, и он подпевал ей в патрульной машине, пропахшей резким чужим одеколоном: «Вдоль по Питерской… с ка-ла-коль-чи-кам…» – и при этом хохотал громоподобно. Как же, Господь Бог не обидел его голосом… Сделав над собой усилие, Данин внутренним оком увидел, как немолодой полицейский с суровым лицом что-то быстро пишет, а сам он, оседлав железный стул, возбуждённо рассказывает ему об открытии, сделанном Вольфгангом Иоганном Гёте в конце жизни, а именно об нахождении им межчелюстной кости, называемой теперь, между прочим, «костью Гёте». И, как последний дурак, повторяет самому понравившуюся фразу: «Наука влекла великого немецкого поэта, как котов валерьянка». Да ещё со словами «Мне ли, стоматологу, не знать?» порывается показать на себе, где именно находится та знаменитая кость, будь она неладна… А теперь проснулся в своей шестикомнатной квартире на втором этаже отдельно стоящего особняка в центре Берлина. «Вымостил свою дорогу, чёртов куролес?» – подумал Данин, и вдруг открылось ему другое, забытое: где-то наверху, в конце дороги, его ждал невидимый пока свет…
Волшебная закольцованность воспоминаний – сон, явь, снова сон и, как венец всего, едва не ускользнувший из памяти свет – восхитили его. Но физиология тут же напомнила о себе, затылок пронзила резкая боль. Данин откинул одеяло и, словно тяжелораненый, осторожно сел, свесив с кровати ноги. На ногах оказались длинные клоунские носки в белую и красную полоску. Чужие. Данин рассмотрел их с неприязнью. Носки вполне тянули на символ его свершившегося морального падения. Цирк вчера вышел отменный…
– Кто-нибудь даст мне попить? Помру ведь, – с мукой сказал он. – Эмма!
На комоде, в простенке между окнами, вполоборота сидел рыжий кот и качался вместе с комодом.
– Котейко, – по-детски жалобно позвал Данин. – Голова у меня болит. Душа у меня болит…
Кот и глазом не моргнул, жёлтым, повёрнутым к Данину. Был он механической игрушкой, круглобоким, с подкрученными усами, нарисованными лихой рукой на выразительной глиняной морде. Когда сквозь прорезь на плюшевом загривке проскальзывала монета, срабатывал механизм и раздавалось скрипучее: «Мау». Корыстный, получается, был кот. Но родной. Потому что год за годом смиренно выслушивал рассказы хозяина о несчастной любви, а такое под силу не каждому.