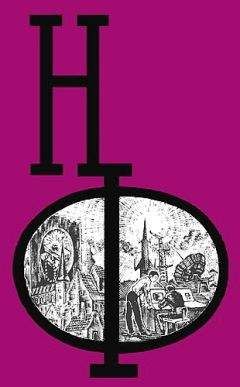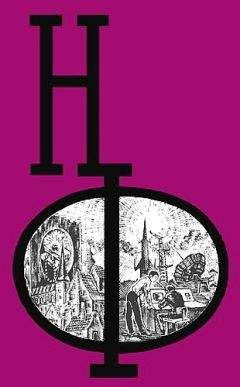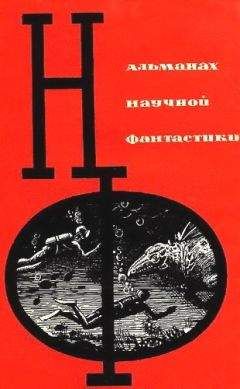Аппарат остановился на трех мужчинах в такой же солдатской форме. У них были темными тряпками обмотаны лица и глубоко надвинуты выцветшие пилотки — только чуть виднелись глаза и угадывалась полоска рта. Они сидели на краю постамента, твердо поставив ноги в обмотках на пол и, чуть подавшись вперед, смотрели куда-то вбок, застывшие, как на сельских фотографиях.
Объектив дернулся и в середине столпившихся ярко выделил бледное треугольное лицо с каплями пота на лбу и высоких залысинах. Лицо парня было очень молодое и тонкое, только резкие складки морщин опускались к краям губ от крыльев носа и сильно старили его, а так ему было лет двадцать. Парень волновался и трудно дышал.
Объектив вернулся к троим. Сидящий посреди встал. Неразборчивый шум сразу смолк, он заговорил, и хриплые, плохо записанные слова зазвучали весомо, как удары молота о сваю.
— Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к врагу. Отвечайте честно, от этого зависит ваша жизнь. В лагере, откуда вас привезли, вы были переводчиком. Это так?
Объектив застыл на белом лице парня. У того судорожно прыгнул кадык и разжались тонкие губы. Четко падали короткие, очевидно, давно уже продуманные слова.
— Да, я действительно был переводчиком.
— Как вы попали в плен?
— Я не трус, мы все тут попали одинаково.
— Вы вызвались в переводчики добровольно. И били наших солдат.
— Да, бил. Когда видел, что пленного сейчас ударит фашист, ударит прикладом по голове, я бил его по лицу первым.
— Зачем?
Снова лицо парня. Он, кажется, чуть опомнился. Его ответы — наверное, студент, подумал я — звучали очень округло, по-книжному, диковинно для этой обстановки.
— Это звонко, обидно, но не больно, а главное — не смертельно. А немец тогда уже не бил, его устраивало, что мы расправляемся сами. Считаю свои действия правильными и в этом лагере снова пойду переводчиком.
— Вы сумели что-нибудь сделать за это время? — голос звучал гораздо мягче.
— Здесь есть люди, которые подтвердят: я устроил побег тех капитана и майора, когда узнал, что на них донесли.
— Верно, — сказал кто-то сбоку. — Это было, я говорил.
Сидящий в середине снова встал.
— Трибунал считает ваши действия оправданными и приносит вам благодарность, — сказал он, очевидно улыбаясь, потому что видимая полоска рта раздвинулась и глаза стали виднее. — Вашу руку. Спасибо, товарищ! И оставайтесь пока здесь. Теперь того, из Киева, — сказал он.
Объектив проводил спины четверых, ушедших в барак, и снова заскользил по толпе. Здесь было человек пятнадцать — небритые, усталые, очень возбужденные лица. Трое сидели молча.
В дверях появился высокий плечистый парень со щетинкой коротких усов. Он заспанно щурил глаза.
— Шо тут за комедь? — спросил он. Его подтолкнули сзади, он оказался в сомкнувшейся толпе.
— Ну, чого вам? — опять пробурчал он, уже просыпаясь.
Сидящий в середине встал.
— Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к врагу, — снова сказал он. — Вы работали надзирателем и вызвались добровольно. Вы били людей плеткой со свинцом и одному выбили глаз. Это было?
Толпа шевельнулась и сомкнулась тесней. Парень оглянулся вокруг, но еще не понял, что происходит.
— А чего же не слухають? — сказал он. — Раз поставлен, я слежу. И нечего спрашивать. Вы на это хто будете?
Он повел плечами, чтобы повернуться к выходу, но на него уже набросились те четверо, что его привели. Послышался всхлип, шум борьбы, на экране (снимающий всунул объектив прямо в свалку) замелькали руки и головы. Потом толпа раздалась. Рослый парень мешком лежал на полу, согнутые ноги его были притянуты к груди, руки связаны сзади, во рту торчал кляп. Он не шевелился.
Трое, обернувшись друг к другу, коротко кивнули.
— Трибунал приговаривает вас к смертной казни, — сказал стоящий в середине. — Приговор приводится в исполнение.
Тот дернулся и что-то промычал. Его подняли и несколько раз ударили о бетонный пол. Тяжело хряснуло тело. Потом его втащили на постамент и, подняв деревянную крышку, сбросили в очистной люк. Толпа молча потянулась к двери. Остались те четверо и трое из трибунала. Снимавший тоже пошел к двери, и только у самого выхода объектив вдруг повернулся назад.
Трое снимали с лиц повязки. Тот, что сидел в середине, уже снял.
Во весь экран прямо в объектив смотрело длинное лицо индейского вождя с тонким прямым носом и глубокими темными глазами. Жесткие прямые волосы чуть клонились набок.
Пленка кончилась, на стене задрожал размытый квадрат света. Журналист подтянул штору, и от солнца стало больно глазам. Женщина тихо плакала, держа фокусника за руку, а он сидел молча, и лицо его было, как маска. Потом, не оборачиваясь к блондину, он хрипло спросил:
— Откуда у вас?
— Это память нашего сотрудника, — быстро заговорил тот, пропуская куски слов. — Мы яркие пятна памяти научились снимать, а опыты делали на себе. — Он глотнул слюну и улыбнулся. — Я-то помню мало, а у пожилых целые километры пленки. Я на ваших представлениях два раза был в Новосибирске, я очень эстраду люблю, а потом узнал ваше лицо на просмотре. Я вас через Гастрольбюро искал, я только боялся очень, думал, ошибся.
— Мне потом не поверили, — медленно сказал фокусник. — А из тех никого не осталось. При побеге…
— Где вы были потом? — требовательно перебил журналист, Фокусник прикрыл глаза, потом посмотрел на парня.
— Строил этот город, — сказал он.
— А по профессии?
— Учитель истории.
Все молчали. Фокусник встал. Жена его уже не плакала, только смотрела на него и держала за руку.
— Спасибо, — сказал фокусник блондину. — Если можно, я зайду к вам завтра, сегодня не разговор.
И вышел. Блондин собрал шнур и тщательно закрывал чемодан.
— А вы сюда что, специально прилетели?
Блондин отвечал вяло, после ухода фокусника с него мгновенно слетело нервное напряжение, и теперь он выглядел смертельно усталым.
— Я его раньше видел на сцене в академгородке. Два раза, я очень эстраду люблю. А сейчас, как узнал, что труппа именно тут, сразу взял отпуск и поехал… Ему сейчас хорошо, наверное, — по-мальчишески добавил он, потом сказал: — Завтра уеду дневным. У меня дел! На три дня не отпускали, — и стал раздеваться, откинув на диване одеяло.
Уснул он почти мгновенно, неудобно приткнувшись щекой к кожаной диванной спинке. Журналист курил, горбился над блокнотом, а потом, словно диктуя самому себе, внятно сказал:
— И отстраненность и неучастие, возведенные в жизненную систему, сейчас уже не оправдание, а вина… — И снова замолчал.