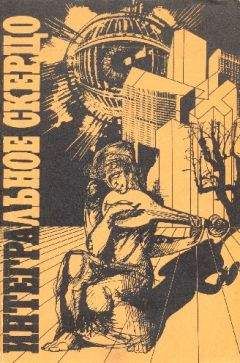Но крик не прозвучал.
Люди растерянно бродили кругом. Они зажимали уши руками, обороняясь от громогласной тишины. Многие кутали голову в тряпки и со стоном забивались в какой-нибудь угол, словно их преследовал кошмар.
Кое-кто, чтобы нарушить невыносимую тишину, пробовал напевать что-нибудь из репертуара куплетных автоматов. И тут же умолкал, испуганный собственным голосом — таким слабым, таким одиноким… Вольфганг недоумевал. Он подходил то к одному, то к другому и шептал им на ухо:
— Вы свободны! Радуйтесь же! Прислушайтесь — неужели вы не слышите восхитительных мелодий тишины? Не слышите, как все живое поет хвалебную песнь? Прислушайтесь к шепоту ветра, к падающим каплям росы, прислушайтесь к шороху воздуха в легких, к благодарному стуку сердца! Вы свободны! Так начинайте жить! Поделитесь друг с другом новыми мыслями!
Но его никто не слушал. Сначала родился шепот, он перешел в согласный жалобный крик:
— Спаси нас! Спасите от этой ужасной тишины, которая делает нас такими маленькими и ничтожными! Верните нам шум! Включите чудесные вибратубы, веселые восторг-автоматы, упоительных синтосоловьев! Верните нам праздник, механическую музыку и потешные песенки, потому что внутри нас так пусто, так пусто!
И толпа устремилась к Департаменту пропаганды — наиважнейшему учреждению СПД, огромному розовому небоскребу, где механические писатели, электронные поэты и автоматические композиторы трудились, чтобы жизнь была непрерывным праздничным представлением. И хитроумные думающие роботы, услышав жалобный призыв толпы, тотчас загорелись новым рвением.
Миллиарды электрических импульсов побежали по проводам с этажа на этаж. Замелькали сигнальные лампочки. Включились резервные динамики. С площадок, куда не распространилось действие сверхзвуковой симфонии, поднялись в воздух музыкальные вертолеты.
— Дети! — зарокотал отеческий металлический голос с крыши Департамента. Подключенный прямо к сети механический писатель заработал на полную мощность. — Дети! Какой-то безумец устроил покушение на нас, на машины! На нас, которые неустанно трудятся, чтобы обеспечить узаконенное право человека на бездумье! Но вы не бойтесь! Мы спасем вас от террора тишины! Слушайте! Мы снова начинаем играть! Веселитесь опять! Ликуйте! Хохочите! Шумите! Танцуйте под блаженные звуки ксинги, юмбы и хух-хух!
Ласковый металлический голос смолк, но из вертолетов и броневиков полиции СПД снова зазвучали приторные рулады вибратуб и сладкое пение роботов-куплетистов:
Дружно — юмба, дружно — бумба,
Веселись на всю катушку!
Напряжение оставило бледные, испуганные лица. Появились робкие улыбки, люди взялись за руки, сделали ногами одно коленце, другое, запрыгали и подхватили:
Дружно — юмба, дружно — бумба…
И с благословения доброго металлического голоса начался огромный импровизированный асфальтовый бал. А в это время электрические ищейки полиции СПД выследили оборванного худого человека, который стоял, прислонясь к стене, и глядел на лежащую у его ног разбитую вдребезги черную скрипку…
— Чудная какая мелодия, верно, Джим?
— Верно, Сэм! Это одна из тех запретных песенок, их пели в средние века, до закона о бездумье!
Два сторожа в белых халатах смотрели на дверь с надписью: “Палата 1014”. Одна из многих дверей в одном из многих коридоров больницы для умалишенных. Сколько их тут, этих дверей, и за каждой — один из тех, кто, как ни странно, потерял рассудок от шума нескончаемых праздников, от серийных мелодий музыкальных автоматов.
Сторожа переглянулись с усмешкой и прильнули к глазку в двери. Посреди комнаты стоял худой человек со странным, одухотворенным лицом, в предписанной регламентом розовой одежде. На маленькой нескладной скрипке он играл чудесный концерт Мендельсона.
Но этого сторожа, естественно, не могли знать.
— Сам ее сделал! — сказал Джим. — И ведет себя тихо, лишь бы ему разрешили пиликать на ней!
— Псих психом! — Сэм покачал головой. — Ведь это он тогда затеял покушение, тишину устроил! Чего захотел — чтобы люди задумались! Псих! А эти его трени-брени… То ли дело автоматическая вибратуба!
— Спрашиваешь! От его пиликанья только тоска берет! — Джим прислушался к чистым, глубоким звукам, которые доносились из палаты 1014. — Кстати, ты слышал последнюю: “Ба-бу, милашка!”? Класс!
— Спрашиваешь!
Они воткнули себе в уши грушевидные микроприемнички, и в черепе отдалось упоительное “ба-бу”.
Во всех коридорах, отделениях, палатах динамики блеяли и завывали: “Ба-ба-бу, милашка!”
Умалишенные колотили ногами в дверь, кричали и протестовали. Им хотелось покоя, ПОКОЯ! Но здесь никакие мольбы не помогали. Все равно их не выпустят, пока этот гам не станет для них таким же необходимым, как воздух.,
Вдруг в свистопляску металлической музыки вплелась нежная мелодия из палаты 1014. И соседи перестали колотить в дверь, чтобы не заглушать трепещущие струны, которые так ласково пели о тихой радости, о покое, о зарождающейся надежде. Да-да, они слушали!
Недаром в этой больнице были собраны самые тяжелые случаи…
Дорел Дориан
ЭЛЕГИЯ ПОСЛЕДНЕМУ БАРЛИНГТОНУ
Если вы не бывали в Новом Веймаре, рекомендую: это фантастический город! Огни его изумительны, краски необыкновенны, а воздух, заряженный странностью впечатления, производимого зданием “Хеопс” и славой того, которого называли когда-то “невообразимым Барлингтоном”, настолько плотен, что им трудно дышать. Все кажется неправдоподобным… Но сколько тонкого искусства (и как оно необъяснимо!) в каждой встрече Нового Веймара с музыкой! Меня он, признаюсь, завораживал еще в юности. Может, потому я и пережил здесь впервые ощущение (и логику) акриминального[11] города, может, из-за старого Чиба, моего уважаемого и любимого профессора, и кто его знает, — почему бы и нет? — может, из-за того последнего мгновения, когда вопреки очевидности я хотел вернуть его к жизни. Да, Чиб!
“Невообразимый” — С.К.Барлингтон, отец Чиба, крупнейший музыкант нашего тысячелетия, умер еще до того, как Новый Веймар был завершен. Его творчество (если вы когда-либо слушали знаменитый “Концерт Квазаров” в исполнении оркестра “Двор-Хеопс”[12]) встречается только в плане большой вертикали математического гения и интересов его сына. (Организаторы грандиозных гастролей “Сверхновейшей музыки” вольны и в дальнейшем путать этих двух творцов, заявляя даже, что это — одно и то же лицо… Их дело!) Но ошибочное отождествление и бесконечное перепевание так называемого “Барлингтонского противоречия” (между отцом и сыном) не имеет под собой никакой основы. Принявшись за строительство этого странного “Хеопса”, в котором время открыло позднее символ сыновней преданности, Барлингтон Чиб, ученый чисто технического склада, хотел выразить свой собственный творческий потенциал, идею, которой был одержим, свой гений.