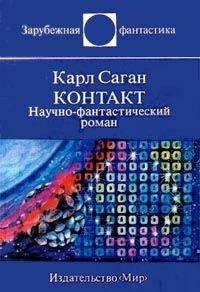— Ну, на самом деле язык муравьев имеет химическую природу, — заметил Луначарский, проницательно глянув на настоятеля. — Они наносят определенными молекулами метки, помечающие дорогу к еде. Чтобы понять муравья, нам потребуется газовый хроматограф или же масс-спектрометр. Так что нет необходимости становиться муравьем.
— Возможно, вам под силу стать муравьем только таким вот способом, — не глядя на него, возразил настоятель. — Объясните мне, зачем вам, ученым, изучать следы, оставленные муравьями?
— Энтомолог сказал бы, — предположила Элли, — чтобы понять муравьев и их общество. Познание доставляет ученым удовольствие.
— Это просто другой способ признаться в любви к муравьям.
Элли слегка пожала плечами.
— Да, но те, кто платит энтомологам, скажут иначе. Они скажут, что хотят управлять муравьями, уметь изгонять их из любого жилья… Или глубже понять агробиологию почвы. Биологические методы безопаснее пестицидов. Едва ли здесь можно усмотреть любовь к муравьям.
— Скорее нашу заинтересованность, — заметил Луначарский. — Пестициды ядовиты и для людей.
— Зачем вспоминать о пестицидах во время такого обеда? — возмутилась сидевшая напротив Сукхавати.
— Помечтаем о муравьях в иное время, — негромко сказал настоятель, улыбнувшись Элли той же неотразимой и невозмутимой улыбкой.
Обувшись с помощью метровой длины рожков, они пошли к маленькой стайке автомобилей, а официанты и хозяин ресторана улыбались и церемонно кланялись. Элли и Си смотрели, как настоятель садится в лимузин вместе с кем-то из хозяев-японцев.
— Я спросил у настоятеля, если он способен разговаривать с камнем, значит, может общаться и с мертвыми? — проговорил Си.
— И что он ответил?
— Он сказал, что с мертвыми общаться несложно. Куда труднее — с живыми.
Бурное море!
И Млечный Путь
Простерся над Садо.
Мацуо Басе
Быть может, выбор Хоккайдо и был обусловлен его скверной репутацией. Здешний климат предъявлял к зданиям требования, весьма необычные по японским понятиям. Этот остров по-прежнему населяли айны, волосатые аборигены, к которым многие японцы и поныне относились свысока. Зимы здесь были ничуть не мягче, чем в Миннесоте или Вайоминге. Конечно, местоположение Хоккайдо в известной мере затрудняло поставки, но в случае… катастрофы остров находился на самом севере Японии, вдали от ее густонаселенных районов. Теперь, после завершения тоннеля длиной в 51 километр, соединившего этот остров с Хонсю, его уже нельзя было считать изолированным. Тоннель стал самым длинным подводным тоннелем в мире.
На Хоккайдо можно было без всякого риска испытывать отдельные агрегаты Машины. Однако к сборке Машины там поначалу отнеслись с сомнением. Дело было в том, что окружавшие сборочное предприятие горы несли на себе явный отпечаток недавнего вулканизма. Одна из них продолжала бурно расти — со скоростью один метр в сутки. Даже Советы выразили некоторую озабоченность — их Сахалин был всего лишь в 43 километрах, за мысом Соя или проливом Лаперуза. Правда, шума подняли немного, так сказать, на копеечку, не на рубль. Все прекрасно понимали: при соответствующем стечении обстоятельств Машина может разнести и всю Землю, даже если будет построена на обратной стороне Луны. Опасно уже просто приниматься за ее изготовление, а всякие там мелочи — где и как она расположена — можно не принимать во внимание.
К началу июля Машина снова начала обретать законченный вид. В Америке продолжению работ сильно мешало бурление политических и сектантских страстей, сооружению советской Машины препятствовали технические сложности. Но здесь — на заводе куда более скромных масштабов, чем в Вайоминге, — уже установили шпонки и целиком собрали весь додекаэдр. Правда, публичных заявлений об этом делать не стали. Древние пифагорейцы, открывшие додекаэдр, сведения об этой фигуре держали в строгом секрете, угрожая страшными карами болтуну. Так что для нашей планеты не было ничего необычного в том, что о существовании додекаэдра, пусть и величиной с дом, знали только немногие люди, хотя и происходило все это 2600 лет спустя и на другом краю света.
Руководитель японского проекта отправил всех сотрудников на несколько дней в отпуск. Обихиро, единственный более или менее крупный город неподалеку, располагался у слияния двух рек Юбецу и Токати. Одни отправились кататься на лыжах — по вечным снегам, покрывающим вершину горы Асахи, другие — строить каменные запруды и греться в теплых водах, подогреваемых энергией распада радиоактивных элементов, рожденных при взрыве какой-нибудь сверхновой за миллиарды лет до наших дней. Кое-кто решил посетить гонки в Бамба, там крепкие тяжеловозы тянули груженые санки по параллельным полосам непаханой земли. Но, чтобы как следует отдохнуть, вся пятерка решила отправиться геликоптером километров за 200 — в Саппоро, крупнейший город Хоккайдо.
По весьма многозначительному совпадению они попали как раз на праздник Танабата[45]. Службы безопасности считали риск небольшим: успех обеспечивала Машина, а не эти пять человек. И в рациональном мире их будет несложно заменить другими, рассуждала Элли, правда, опять возникнут всякие политические трудности при выборе приемлемых для всех членов консорциума кандидатур.
У Си и ВГ оказалось много незавершенной работы, справиться с которой можно было только за сакэ. Так Элли, Деви Сукхавати и Абоннема Эда оказались на одной из боковых улочек возле бульвара Одори. Японские провожатые вели их мимо бумажных вымпелов и фонарей, мимо картин, изображавших листья, черепах, людоедов, молодых мужчин и женщин в средневековых костюмах; на натянутом поперек улицы куске парусины был намалеван ужасно похотливый павлин.
Элли поглядела на Эда в длинном, просторном, расшитом одеянии из полотна и высокой жесткой шапочке, потом на Сукхавати в очередном умопомрачительном шелковом сари и пришла в восхищение от подобного общества. Японская Машина уже успела удачно пройти все предписанные испытания, а выбранный экипаж не только представлял население планеты, пусть и не во всем его многообразии, но и состоял из личностей, скроенных отнюдь не по национальному шаблону каждой из пяти стран. Все они были по-своему бунтарями.
Вот, например, Эда. Великий физик, создал теорию суперобъединения — элегантного обобщения, включавшего в качестве частных случаев всю прочую физику — от тяготения и до кварков. Его теорию можно было сопоставить лишь с трудами Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, и Эда с полным правом ставили в один ряд с обоими гигантами. Он родился в Нигерии, в мусульманской семье — случай достаточно обычный в этих краях, — принадлежавшей к неортодоксальной исламской секте Ахмадис[46], членами которой были суфии[47]. А суфии, пояснил он всем после вечера, проведенного с настоятелем Уцуми, в исламе играют ту же роль, что дзэн среди буддистов. Последователи Ахмадис провозглашали «джихад пера, но не меча».
Спокойный, даже, пожалуй, кроткий, Эда был яростным противником обычного толкования джихада как священной войны и настаивал на интенсивном и свободном обмене идеями. В этом он противоречил консерваторам от ислама, и некоторые мусульманские нации возражали против его включения в экипаж. И не только они. Темнокожий нобелевский лауреат, умнейший из землян, не устраивал и тех, кто скрывал закоснелый расизм под цивилизованным обличьем. Когда четыре года назад Эда посетил Тайрона Фри в тюрьме, темнокожие американцы исполнились гордости, видя в нем идеал для своей молодежи. В расистах Эда пробуждал худшее, во всех других людях — самые лучшие чувства.
— Чтобы делать физику, нужно иметь время для работы. Это роскошь, — говорил он Элли. — Многие смогли бы заниматься ею, будь у них такая возможность. Но когда тебе ежедневно приходится добывать на улице пропитание, становится не до физики. И я обязан улучшить условия жизни молодых ученых в собственной стране.
В Нигерии он постепенно становился национальным героем. И теперь часто говорил о коррупции, о порочной системе распределения, о роли честности в науке и не только в ней, а еще о том, какой великой страной могла бы стать Нигерия. Сейчас ее население равно населению Соединенных Штатов в 20-е годы, уверял Эда. Нигерия богата разнообразным сырьем, многообразие культур подкрепляет ее силу. Если бы Нигерия смогла справиться с собственными проблемами, говорил он, то стала бы Уаяком для всего мира. Во всех прочих вопросах он был настроен миролюбиво, и в жизни стремился к уединению и тишине… Многие нигерийцы — мужчины, женщины, мусульмане, христиане, анимисты, молодые и не очень молодые — серьезно прислушивались к нему.