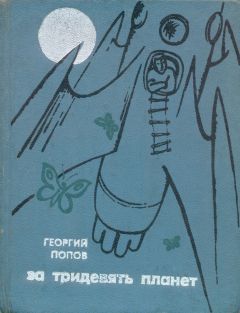Как читатель понимает, скрывать больше не было смысла.
— Фросенька, милая, я правда люблю тебя… Хочешь… хочешь — полетим со мной! Я выкину все контейнеры… все семена… записки… все выброшу, лишь бы освободить для тебя место! Вдвоем нам будет хорошо… Полетим, не пожалеешь! — Я хотел взять Фросю за руку, чтобы вместе идти к кораблю, но она и шага не сделала.
Потом я говорил что-то насчет того, что Иван Павлыч (наш, земной Иван Павлыч, разумеется) построит нам шалаш из двух-трех комнат, ты, мол, устроишься на работу дояркой (ты ведь и здесь доярка), и будем мы жить-поживать да добра наживать. И пойдут, мол, у нас дети, все здоровые физически, безупречные нравственно и вдобавок интеллектуалы, каких поискать.
Когда я кончил и открыл глаза, то Фроси возле меня уже не было. Солнце близилось к закату, и кругом стояла тишина. Слышно было, как на озере плещутся утки.
— Фро-о-ося! — крикнул я что было мочи.
Эхо прокатилось по лесу и пропало где-то вдали.
Я постоял, прислушиваясь, и свернул к тому месту, где стоял мой самокат.
Не успел я пройти и десяти шагов, как увидел лося.
Это был тот самый лось, который сегодня уступил мне дорогу. Он обрывал губами еще зеленые и сочные осиновые листья и на меня не обращал никакого внимания.
Я подошел к нему вплотную, нарвал горсть листьев и протянул ему. Лось не стал ломаться. Он подобрал с ладони все дочиста и помотал головой.
— Не везет мне, брат, — сказал я, гладя лося по гладкой, упитанной шее. Втюрился по уши, можно сказать, первый раз втюрился, и — никакой взаимности! Обидно, брат, черт знает как обидно… Впрочем, что я мечу бисер… А может, ты понимаешь? Может, ты наделен способностью понимать? — Лось в ответ замотал головой еще пуще. — Нет, это ты лишь притворяешься, что понимаешь, а на самом деле ничего не понимаешь, ни в зуб ногой, как у нас говорят. Ну, живи. — Я еще раз погладил лося по гладкой шее и двинулся дальше.
И вдруг… Я даже глазам не поверил, настолько это было неожиданно… Вдруг передо мною выросла Даша, секретарша Ивана Павлыча. На ней была блузка без рукавов, короткая юбочка с разрезами с четырех сторон — спереди, сзади и по бокам — и легкие туфли-босоножки. Вдобавок она набросила на плечи, можно сказать, воздушную косынку, которая готова была повиснуть в воздухе облачком от одного вздоха.
— Здравствуй, Эдя! — сказала Даша каким-то сдавленным голосом.
— Здравствуй! — Я сдержанно кивнул в ответ и отступил в сторонку, давая дорогу, хотя, как читатель понимает, никакой дороги в этом месте не было. Гуляешь? Так сказать, цветочки-ягодки? Ромашки-лютики?
Даша не приняла шутки.
— Я долго думала, Эдя… В прошлую ночь и глаз почти не смыкала…
— Ну, это ты зря! Сон — святое дело, учти это. У нас на Земле без сна обходятся лишь сумасшедшие да влюбленные. Да и то, слыхать, выкраивают часок-другой, чтобы прижаться щекой к пуховой подушке.
— Тебе смешно, — Даша чуть не плакала. — А я… Я люблю тебя, Эдя… Люблю, люблю, люблю… — Она смотрела на меня глазами, полными слез. Ее пушистые ресницы дрожали, и слезы текли, оставляя следы.
— Даша, опомнись! — Я взял ее за руку.
— Люблю, люблю, люблю!.. — продолжала она твердить, как одержимая. — Я тебя сразу полюбила, с первого взгляда, когда ты пришел на праздник дождя, помнишь?
Праздник дождя я помню, разумеется. Но Дашу…
Нет, Дашу я не заметил, а значит, и запомнить не мог.
Наверно, будучи при исполнении служебных обязанностей, она держалась ближе к конторе, в то время как я — ближе к столовой. Здесь мы, правда, столкнулись, но это было уже после того, как дождь перестал.
— Да, конечно, — сказал я, потому что правда и ложь в данном случае имели примерно одинаковый вес.
— Я сразу поняла, что ты не наш Эдька Свистун. Но имей в виду, я никому об этом не сказала, никому-никому… Да мне и говорить некому, настолько я одинока. После, когда ты признался, таить уже не было смысла. А до того я и рта не раскрывала. Я умею хранить тайны! — Последние слова Даша произнесла с подчеркнутой твердостью «А она ничего», — подумалось мне.
Где-то я слыхал (или читал), будто министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки долгое время занималось важными исследованиями сравнивало современных двадцатилетних женщин с их ровесницами периода 1939 года [14]. Зачем это понадобилось именно министерству сельского хозяйства, трудно сказать, но вот результат: у современных женщин рост выше на целый дюйм, талия тоньше, обхват бедер уже.
Глядя на Дашу, я подумал, что она как нельзя лучше соответствует типу современной женщины, какой она представляется агрономам, ветеринарам и зоотехникам. Роста Даша была высокого, талия нельзя сказать, чтоб очень тонкая, но еще и не заплыла… не успела заплыть жиром. Обхват бедер… Но о бедрах, к сожалению, ничего не могу сказать. Не могу сказать по той простой причине, что я их, эти бедра, не обхватывал.
Мне хотелось обхватить, вот так упасть на колени и обхватить, но что-то удерживало меня.
— Да, ты права, я не ваш Эдька Свистун, — подтвердил я, не зная еще и не догадываясь, куда она клонит.
— Ну вот! — обрадовалась Даша. — Я рада…
Я очень рада, что ты не наш… Фрося любит нашего, а я тебя, тебя… Я никого еще не любила так сильно, как тебя. И выбрось из головы Фросю, она тебе не пара.
— При чем здесь Фрося?
— Я видела, как ты стоял перед нею на коленях…В голосе секретарши Ивана Павлыча прозвучала обида. — И это ты… первое человекоподобное существо, прилетевшее к нам из космоса… О, мужчины! Видно, на всех планетах вы одинаковы! Камень принимаете за хлеб насущный и самый натуральный хлеб отвергаете, полагая, что это камень.
Несмотря на то, что говорила Даша очень художественно, я понял, что камень — это Фрося, а хлеб насущный — она сама.
— Да, стоял… Но это ничего не значит, — сказал я.
Наступила долгая пауза. Даша смотрела на меня, я — на нее. Солнце, наверно, уже коснулось горизонта, оно освещало только верхушки деревьев, здесь же, на Земле, было сумеречно. Но и в сумерках, разлитых по всему воздуху, я отчетливо различал каждую родинку на теле Даши, каждую ее ресничку. А если взять во внимание, что кругом стояла первобытная, ничем не нарушаемая тишина, то станет ясно, что я так же отчетливо слышал и дыхание Даши. Смотрела она в упор, почти не мигая, и дышала редко, точно через силу, и это не предвещало ничего хорошего. И правда, минуту спустя, когда пауза становилась уже непереносимой, она сказала:
— Возьми меня, Эдя… Туда, туда… — Она сомкнула на груди руки и устремила взгляд вверх.
Я растерялся.
— Куда тебя взять? Ты понимаешь, что говоришь?
— Туда, на свою планету… Возьми, Эдя! Я буду тебе верной женой, вот увидишь! Не женой — тенью, если хочешь — твоей госпожой и повелительницей.