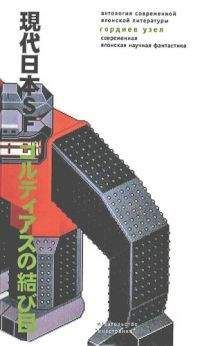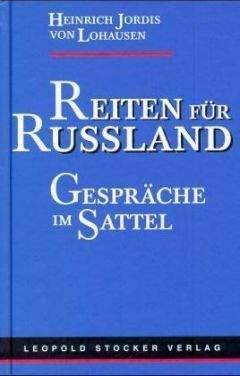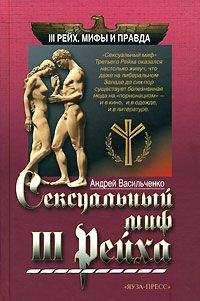Остановившись поодаль, она поклонилась, точно носом клюнула, и что-то сказала, но издалека я не расслышала, что именно. Похоже, просто поздоровалась. Сунув аппарат в сумочку, я пошла ей навстречу.
Старухе было явно за восемьдесят. И знаете, учитель, она действительно напоминала краба или сплющенную запятую, как вы и говорили.
Оказалось, что она приходит сюда каждое утро, чтобы полюбоваться восходом. Мы обе сели на прибрежный валун и стали смотреть, как алая капля солнца поднимается из моря. Разумеется, я не могла не воспользоваться случаем и спросила у нее про старух с тележками.
«Ежели лет десять назад — нет, не упомню… — прошамкала она. — А вот что было прежде… То еще не забыла».
Я и вправду читала в какой-то книге, что очень старые люди гораздо лучше помнят давние времена, нежели близкое прошлое. Оказалось, что в молодости старуха была ныряльщицей.
«И хозяин мой тоже», — добавила она.
В здешних местах ныряльщиков и ныряльщиц называют одним словом — ама. Промышляют тут в основном моллюска аваби — «морское ушко», зарабатывая на этом неплохие деньги. Но муж ее подорвал здоровье и нырять больше не мог. Пришлось ему заняться делом полегче — подвозить на лодке ныряльщиц до места промысла и обратно. По-местному такая лодка называется томаэ. Ама ныряют и поднимаются на поверхность сами, без посторонней помощи, так что у лодочника полно свободного времени. Поджидая ныряльщиц, можно закинуть в море снасть и удить рыбу.
«Прежде-то мужа кто кормил на Миносиме? Ама, жена его. Одна надрывалась. И хозяина, и деток, и свекра, и свекровь — все мы, ама…».
Тут старуха самодовольно рассмеялась, попытавшись горделиво приосаниться — даже скрюченную поясницу свою слегка распрямила. Я оцепенела. Только представить: ама, прежде кормившая всю семью. в старости вынуждена жить на иждивении… Это же для нее как острый нож в сердце! И тут мне вспомнились старухи с тележками, жаждавшие смерти, чтобы внуку купить машину, а внучке — «взрослое» платье…
В те далекие времена ама ныряли в одних набедренных повязках. Их обнаженные полные груди подобно большим мячам колыхались в морской воде…
К поясу привязан мешок для аваби, в руках — очки и железный крючок…
Я спросила у старухи, как поживают подруги ее молодости — ама.
— Да померли все. Никого уж, кроме меня, не осталось. Одна я, милая…
Я искоса посмотрела на сидевшую рядом старуху. Мне вдруг показалось, что у нее нет головы. Маленькая, она едва доходила мне до груди. Спина была скрючена так, что голова ее ушла в плечи. Безмятежно глядя в даль моря, старуха беззубо прошепелявила:
— Тело-то море помнит… Бывало, нырнешь, а вода тебя гладит, гладит… Со всех сторон море. Хорошо…
Сморщенные веки мигнули, пленкой прикрыв глаза. Я сидела рядом со старухой, словно приклеенная к камню. Мы обе не отрываясь смотрели на восходящее солнце.
Когда солнце окончательно поднялось, старуха сползла с камня и заковыляла по берегу, опираясь на посох. Я предложила подвезти ее на машине, но она и слушать не захотела. Ее согбенная фигурка уходила все дальше по дороге, ведущей к роще, становясь все меньше и меньше, и казалось, что уже движется один только посох, словно сам по себе. Наконец она совсем исчезла из виду.
Я еще раз достала камеру, чтобы заснять при утреннем свете песчаное взморье. Встав с валуна, я побрела к кромке прибоя. И тут…
Тут мне в глаза вдруг бросились какие-то полупрозрачные колючки, шевелящиеся на песке. Что-то ползло у меня под ногами. Вглядевшись, я рассмотрела маленького сухопутного крабика — сиоманэки. Оглядевшись вокруг, я заметила, что буквально весь пляж покрыт ползущими сиоманэки. Крошечные, коричневые, с голубоватой спинкой… Они ползли к морю, шевеля сверкающими клешнями.
Сэнсэй, их было несметное множество! И все они, перебирая клешнями, направлялись к морю! Словно совершали некий магический ритуал, ритуал поклонения морю, морской воде. У меня невольно стеснило грудь. Так вот где они, старые ама!.. Над песком уже начинал дрожать раскаленный воздух.
Голос в трубке прервался. Я тоже молчал. Я словно воочию видел песчаный пляж и ползущие полчища крабов. Внезапно в голове сложилась первая строка хайку:
Сиоманэки…
Сиоманэки…
Несметные полчища крабов
Приветствуют волны.
Сиоманэки… Те же иероглифы, взятые по отдельности, обозначают «прилив сладостных воспоминаний». Но ведь у них есть еще и третье значение! На языке поэзии словом «сиоманэки» называют весну.
Вернувшись в гостиную, я некоторое время бездумно сидел у жаровни. Правое ухо онемело и горело из-за того, что я слишком долго прижимал к нему телефонную трубку.
Очнувшись, я заметил, что жена куда-то исчезла. Должно быть, ушла за покупками.
Когда я ухожу из дому, то всегда сообщаю об этом жене. А она и не думает отчитываться, куда и насколько уходит.
В горле пересохло. Я пошел на кухню, вскипятил воды, заварил чай и вернулся к котацу. Отхлебнув глоток, я рассеянно смотрел на струйки пара, поднимавшиеся над чашкой. Перед глазами промелькнула картина: на песке сверкали клешни ползущих сиоманэки…
Bocho by Kiyoko Murata
Copyright © Kiyoko Murata
© Г. Дуткина, перевод ну русский язык, 2001
Марико Охара
Психогинки[24]
До позапрошлой пятницы Братец Врэгги и Крошка Сбрен предавались любви во всевозможных позах.
Они занимались этим на экранах ста миллиардов телевизоров, заполонивших весь город и не позволявших себя выключить: хочешь не хочешь — смотри.
О Братце Врэгги было известно, что он внушительного роста: двадцать два с половиной сантиметра. Он ходил в механических доспехах, из которых повсюду торчали шестеренки, болты, пружины и трубки.
Крошка же Сбрен носила лиловое кимоно из шелковой кисеи, которое она, впрочем, при встрече с Врэгги по большей части немедленно сбрасывала, обнажая белоснежную керамическую плоть.
А когда все сообразили, что это вообще-то вроде как нехорошо, она уже была беременна.
Животик этой девятнадцати-с-половиной-сантиметровой транзисторной прелестницы начал распухать, как у пузатого китайского бога счастья. Должно быть, Крошка Сбрен, такая фарфоровая на вид, на самом деле была все-таки резиновая. По крайней мере, большинство сходилось на том, что ее надувают воздухом. А впрочем, очень может быть, что и Врэгги, и Сбрен — это только изображения, и ничего больше.
И вот наконец во всех без исключения жилых комнатах, во всех без исключения торговых заведениях, на каждой без изъятия стене, во всех неисчислимых кинескопах Крошка Сбрен мощно разродилась.