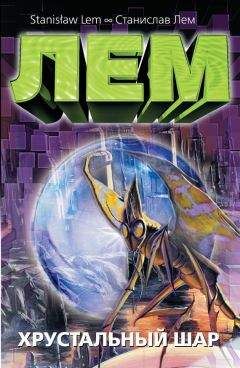– Вас я давно уже подозреваю, – сказал я и рассмеялся, когда Грэм вытаращил на меня глаза.
Когда Мейкинз засел над принесенным списком, я решил провести еще один эксперимент. Выписал адреса людей, чьи личные дела отложил, и в сопровождении двух солдат отправился в жилые блоки. Шел второй час ночи, и все, кто не работал в третьей смене, спали. Мы входили в каждую комнату, не зажигая света. Я измерял пульс лежащих, чтобы проверить, спят ли они. Потом внезапно светил им фонарем в глаза.
– Mensch, wie heissen Sie? – кричал я как можно громче. – Sagen Sie sofort, los![140]
Я предполагал, что разбуженный немец непроизвольно ответит на родном языке. К сожалению, семь человек проснулось при нашем входе, четверо были на работе, а из остальных никто не ответил по-немецки. Зато некоторые чудовищно ругались. Измотанный, я вернулся к себе. Ложась в кровать, приказал, чтобы меня ни под каким предлогом не будили до шести утра. Я был совершенно разбит.
– Не очень умно, – сказал Мейкинз, когда я пожелал ему спокойной ночи. – Теперь он предупрежден, что трюк не удался. Надеюсь, что это не помешает нам его поймать. – И с этими словами удалился в свою комнату.
– Парень, – сказал мне Мейкинз, едва я открыл глаза, – ты знаешь, что мы не получили папки наших бонз?
– Я знаю об этом, но…
– Я хотел бы получить эти папки, – настойчиво сказал Мейкинз, глядя в окно. – А особенно данные, касающиеся инженера Лаварака.
Я молча начал одеваться. Когда я выходил из комнаты, Мейкинз добавил:
– Не говори всего Грэму – я не хотел бы задеть его патриотизм.
Грэм сначала рассмеялся, когда я попросил у него папки, но затем насторожился.
– И Лаварака тоже? – спросил он. – Да я скорее ему поверю, если он скажет, что вы немецкий шпион. Вы хоть знаете, что это за фамилия? Лавараки приехали в Штаты в 1760 году. Четверо из них были в конгрессе, а отец нашего занимал пост мэра Чикаго.
– Я хотел бы посмотреть его папку совершенно частным порядком. Просто хочется узнать его биографию.
– Ладно.
Вернувшись к Мейкинзу, я выложил на стол папки.
– Томми, – сказал я, – кажется, чутье на этот раз тебе изменило. Это благородное старинное семейство вне всяких подозрений, и вдобавок весьма богатое. Тем более наш Лаварак три года работал в бюро департамента морского флота, а там очень внимательно смотрят людям в глаза и на их руки.
Мейкинз не отозвался и вышел из комнаты. Он вернулся к ленчу.
– Парень, – сказал он, – у меня любопытные новости. – Он закрыл двери, улыбаясь.
– Я познакомился с одним из рабочих, который был засыпан вместе с Лавараком, и он рассказал мне подробности катастрофы. Они были таковы, что я постарался получить оттиск пальца инженера. Вот мой портсигар. – Он подал мне гладкую серебряную коробку, завернутую в платок. – Сделай, пожалуйста, что нужно, ты умеешь это лучше меня.
Я без слов открыл несессер и с помощью баллончика с ликоподиумной пудрой опылил портсигар. На зеркальной поверхности проявилось несколько пятен.
– Я видел в папке его старый паспорт, – сказал Мейкинз.
На американских паспортах под фотографией находится квадратик с отпечатками обоих указательных пальцев. Некоторое время я не слышал дыхания Мейкинза, потом он отложил портсигар и лупу.
– Так я и предполагал. Черт побери, мы нашли его, понимаешь?
Глаза у него сияли. Я с недоверием схватил лупу. Да, не было никаких сомнений.
– А здорово сделано, не правда ли? – сказал Мейкинз. – Их засыпало, и инженер погиб. Размозжило ему голову. Когда они пришли в себя, – они ведь сидели там три часа, – единственным, кто оказался с фонарем, был шпион. Сориентировался в ситуации. Был обычным рабочим. А теперь появился единственный, необычайный шанс, понимаешь? Инженер был изуродован до неузнаваемости. Все были в комбинезонах. Из девятерых – четверо без сознания, а может, уже убитых. И там, в этой темноте, когда в любую минуту остатки кровли могли обрушиться на голову, он сам ножом или лопатой отсек себе пол-лица. Возможно, перед тем переложил себе документы, но это уже мелочи. Таким образом он стал инженером Лавараком!
– Как ты на это вышел? – спросил я.
– Это его жена… помнишь, что говорил Грэм? Когда ехала к нему на машине, произошла катастрофа. Опасались, что она его не признает: может, другая форма руки, цвет глаз, – поэтому ее ликвидировали. Уж слишком библейская получалась история, слишком много в ней было от Иова.
– Начинаем представление, – добавил он. – Иди к Грэму.
Толстяк принял меня, развалившись в кресле. Пачка пирамидона лежала на столе. Когда я рассказал ему все, он остолбенел: изумленно хлопал глазами, тер руками щеки, – наконец взорвался:
– Неслыханно! Это бесчеловечно! Я просто не могу понять – ну да, можно отдать жизнь. Но так?.. Ведь вы видели, видели, как он… И это собственными руками. Боже!
Открылись двери. Вошли Лаварак и Мейкинз. Инженер заканчивал какой-то рассказ, живо жестикулируя.
– Присаживайтесь, господин инженер, – сказал я, подав знак Грэму. Я боялся, как бы он не утратил самообладания. – Мы пригласили вас по очень важному делу.
Лаварак, удивленный, приподнял брови.
– Слушаю вас.
– К сожалению, уловка не удалась, – начал я по-немецки. – Кропф нам все рассказал.
Инженер холодно посмотрел на меня.
– Я знаю немецкий язык, – сказал он, – но не понимаю, почему вы на нем говорите? И при чем тут какой-то Кропф?
– Может быть, вы согласитесь сделать отпечаток пальца вот на этом листке? – сказал я. – Один оттиск у нас уже есть – вы сделали его до катастрофы.
Я говорил по-прежнему на немецком языке. Свет заблестел в глазах Лаварака. Он сидел окаменев, только глаза все сильнее пылали на иссеченном шрамами лице, которое медленно синело. В незакрывающемся рту белели зубы.
– Вы проиграли, – сказал я. – Но это было сильно.
Он по-прежнему сидел неподвижно. Была такая тишина, что каждый звук слышался как усиленный в сто раз. Вдруг белое, словно неумело высеченное из дерева, лицо дрогнуло. Раздался глухой стон. Инженер упал лицом на стол, рыдая.
– Страшно, – пробормотал Грэм. Сигара у него погасла. С открытым ртом он смотрел то на меня, то на Мейкинза. – До самой последней минуты я не мог поверить!
Он подошел к Лавараку:
– Успокойтесь. Вы сражались прекрасно. Я сделаю все для того, чтобы… чтобы облегчить вашу участь.
Тот рывком поднял голову. Глаза у него были сухие. В глубине его лица что-то происходило, словно его настоящие, утраченные черты пытались пробиться на застывшую поверхность.
– Ничего мне не нужно! – сказал он. – Ничего!
Голос был другой. Более глухой, горловой. Настоящий.