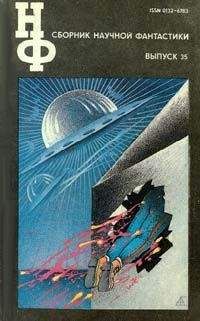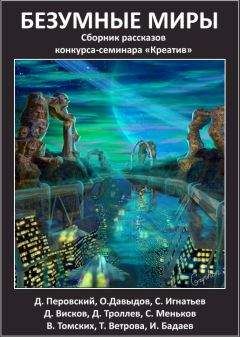дисканты волчат — о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, в вечером — вечер, и еще о непонятной печали, похожей на эту радость. Вслушиваясь в музыку, Саша вдруг понял, как непостижим мир, в центре которого он лежит.
Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая все небо, в какой-то момент она сомкнулась вокруг Саши или это он оторвался от земли и упал на ее приблизившуюся поверхность.
Придя в себя, он почувствовал слабые толчки и гудение мотора. Он открыл глаза и увидел, что полулежит на заднем сиденье машины, под ногами у него — рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а за рулем впереди сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, улыбнулся и прижал к губам палец; тогда Саша повернулся к окну.
Машины, растянувшись в длинную цепь, мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали маленькие игрушечные дома надвигающегося города.
В самом начале третьего семестра на лекции по эм-эл философии Никита Сонечкин сделал одно удивительное открытие.
Дело было в том, что с некоторых пор с ним творилось непонятное: стоило маленькому ушастому доценту, похожему на одолеваемого кощунственными мыслями попика, войти в аудиторию, как Никиту начинало смертельно клонить в сон, А когда доцент принимался говорить и показывать пальцем на люстру, Никита уже ничего не мог с собой поделать — он засыпал. Ему чудилось, что лектор говорит не о философии, а о чем-то из детства: о каких-то чердаках, песочницах и горящих кучах сухих листьев; потом ручка в Никитиных пальцах забиралась по диагонали в самый верх листа, оставив за собой неразборчивую фразу;
наконец, он клевал носом и проваливался в черноту, откуда через секунду-другую выныривал, чтобы вскоре все опять повторилось в той же последовательности. Его конспекты выглядели странно и были непригодны для занятий: короткие абзацы текста пересекались длинными косыми предложениями, где речь шла то о космонавтах-невозвращенцах, то о рабочем визите монгольского хана, а почерк становился мелким и прыгающим.
Сначала Никита очень расстраивался из-за своей неспособности нормально высидеть лекцию, а потом задумался — неужели это происходит только с ним? Он стал приглядываться к остальным студентам, и здесь-то его ждало открытие.
Оказалось, что спят вокруг почти все, но делают это гораздо умнее, чем он, уперев лоб в раскрытую ладонь так, что лицо оказывалось спрятанным. Кисть правой руки при этом скрывалась за локтем левой, и разобрать, пишет сидящий или нет, было нельзя. Никита попробовал принять это положение и обнаружил, что сразу же изменилось качество его сна. Если раньше он рывками перемещался от полной отключенности до перепуганного бодрствования, то теперь эти два состояния соединились — он засыпал, но не окончательно, не до черноты, и то, что с ним происходило, напоминало утреннюю дрему, когда любая мысль без труда превращается в движущуюся цветную картинку, следя за которой, можно одновременно дожидаться звонка переведенного на час вперед будильника.
Оказалось, что в этом новом состоянии даже удобнее записывать лекции — надо было просто позволить руке двигаться самой, добившись, чтобы бормотание лектора скатывалось от уха прямо к пальцам, ни в коем случае не попадая в мозг, в противном случае Никита начинал или просыпаться, или, наоборот, засыпал еще глубже, до полной потери представления о происходящем. Постепенно он так освоился во сне, что научился уделять нескольким предметам одновременно внимание той крохотной части своего сознания, которая отвечала за связи с внешним миром. Он мог, например, видеть сон, где действие происходило в женской бане (довольно частый и странный сон, поражающий целым рядом нелепостей, — на бревенчатых стенах висели рукописные плакаты со стихами, призывающими беречь хлеб, а кряжистые русоволосые бабы с ржавыми шайками в руках носили короткие балетные юбочки из перьев); одновременно с этим он мог не только следить за потеком яичного желтка на лекторском галстуке, но и выслушивать анекдот про трех грузинов в космосе, который постоянно рассказывал сосед.
Просыпаясь после философии, Никита в первые дни не мог нарадоваться своим новым возможностям, но самодовольство улетучилось, когда он понял, что может пока только слушать и писать во сне, а ведь тот, кто в это время рассказывал ему анекдот, тоже спал! Это было ясно по особому маслянистому блеску глаз, по общему положению туловища и по целому ряду мелких, но несомненных деталей. И вот, уснув на одной из лекций, Никита попробовал рассказать анекдот в ответ — специально выбрал самый простой и короткий, про международный конкурс скрипачей в Париже. У него почти получилось, только в самом конце он сбился и заговорил о мазуте вместо маузера. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда после последнего сказанного Никитой слова истекли три секунды тишины и стало ясно, что анекдот закончен.
Больше всего Никиту удивила та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно — начиналось пробуждение.
Говорить во сне было трудно, но возможно, а до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени поворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске (чтобы оправдать такое невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок). Иногда лектор поворачивался на спину и прислонялся затылком к еловой окантовке кафедры; тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга, но основную часть курса он читал на правом боку.
Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия — так, он мог, не просыпаясь, встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал путаться в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением преподавателя морщиться и постукивать рукой по столу, не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения.