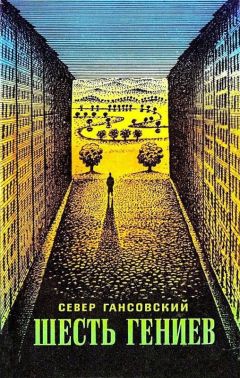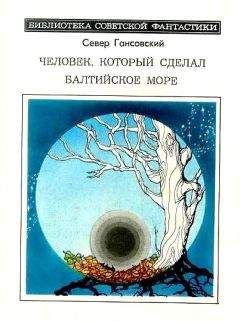Внезапно он сложился втрое и, прежде чем кто-нибудь осознал смысл его движения, уже был на коленях.
— Как оплошавшее дите стою перед вами многогрешен!
Все так и застыли, лишь кто-то, подавленно вскрикнув, закрыл лицо руками. Постыдней и хуже вида упавшего на колени старика, его с дрожью простертых рук была та поспешная готовность, с которой он это проделал. Никто не допускал возможности такой развязки от одной лишь видимости намека на ее желанность. Но намек-то вышел не кажущийся… И во всем этом была своя страшная логика, ибо за ней стояла многоопытность холопа, который чутко улавливает окрик и точно знает, когда можно пререкаться, а когда следует униженно себя растоптать.
Смотреть на это было так омерзительно, думать о своей тут вине так нестерпимо, что Игорь с белым от ужаса лицом первым метнулся к пульту, вырвал его из сомлевших рук товарища. Все погасло с коротким, прозвучавшим, как пистолетный выстрел, щелчком. Исчезла обстановка девятнадцатого века, исчез и Булгарин. Но и оставшись наедине со своим временем, все молчали, не смея поднять глаз; как будто рядом еще находился жуткий призрак.
Г.Гуревич
КРЫЛЬЯ ГАРПИИ[16]
Некоторые писатели полагают, что название должно скрывать смысл книги. У захватывающего приключенческого романа может быть скромный заголовок: “Жизнь Марта” или “В городе у залива”. Пусть читатель разочаруется приятно. Скучным же мемуарам разбогатевшего биржевика следует дать громкое название: “Золотая рулетка” или “Шепот богини счастья”. А иначе кто же будет их покупать?
Эта повесть названа “Крылья Гарпии”. Естественное название, соответствующее содержанию, оно само собой напрашивается. Конечно, можно было бы озаглавить ее “Крылья любви”, но это напоминало бы мелодраматический киносборник. Если же в заголовке стояло бы просто “Крылья”, люди подумали бы, что перед ними записки знаменитого летчика или же сочинение по орнитологии.
После заголовка самое важное — вводная фраза. Она должна быть как удар гонга, как отдернутый занавес, как вспышка магния в темноте. Нужно, чтобы читатель вошел в книгу, как выходят с чердака на крышу, и увидел бы всю историю до самого горизонта. Как это у Толстого: “Все смешалось в доме Облонских”. Что смешалось? Почему? Какие Облонские? И уже нельзя оторваться. Вводная фраза должна быть…
Но кажется, давно пора написать эту фразу.
На четвертые сутки Эрл окончательно выбился из сил. Он, горожанин, для которого природа состояла из подстриженных газонов и дорожек, посыпанных песком, четверо суток провел лицом к лицу с первобытным лесом. Эрл не понимал его зловещей красоты, боялся дурманящего аромата лиан, хватающих за рукава, трухлявых стволов, предательски рассыпающихся под ногами. При каждом шаге слизистые жабы выскакивали из-под ботинок, под каждым корнем шипели змеи, может быть и ядовитые, в каждой заросли блестели зеленые глаза, возможно — глаза хищника. Эрл ничего не ел, боялся отравиться незнакомыми ягодами, не спал ночами, прижимаясь к гаснущему костру, днем оборачивался на каждом шагу, чувствуя на своей спине дыхание неведомых врагов.
Ему, уроженцу кирпичных ущелий и асфальтовых почв, тропический лес казался нелепым сном, аляповатой, безвкусной декорацией. Шишковатые стволы, клубки змееподобных лиан и лианоподобных змей, сырой и смрадный сумрак у подножия стволов, сварливые крики обезьян под пестро-зеленым куполом — все удивляло и пугало его. Он перестал верить, что где-то есть города с освещенными улицами, вежливые люди, у которых можно спросить дорогу, какие-нибудь люди вообще. Четвертые сутки шел он без перерыва и не видел ничего, кроме буйной зелени. Как будто и не было на планете человечества; в первобытный мир заброшен грязный и голодный одиночка с колючей щетиной на щеках, с тряпками, намотанными на ногу взамен развалившегося ботинка.
Всего четыре дня назад он был человеком двадцатого века. Лениво развалившись в удобном кресле служебного самолета, листая киножурнал с портретами густо накрашенных реснитчатых модных звезд. Был доволен собой, доволен тонким обедом на прощальном банкете. И когда смолк мотор, тоже был доволен: тише стало. Внезапно пилот с искаженным лицом ворвался — в салон, крикнул: “Горим! Я вас сбрасываю”. И ничего не понявший, ошеломленный Эрл очутился в воздухе с парашютом над головой. Дымные хвосты самолета ушли за горизонт, а Эрла парашют опустил на прогалину, и куда-то надо было идти.
Он шел. Сутки, вторые, третьи, четвертые… Лес не расступался, лес не выпускал его. Эрл держал путь на север, куда текли ручьи, надеялся выйти к реке — хоть какой-то ориентир, какая-то цель. На второй день развалился правый ботинок, Эрл оторвал рукава рубашки и обмотал ногу, но почти тут же наступил на какую-то колючку; а может, это была змея? В траве что-то зашуршало и зашевелилось — то ли змея уползала, то ли ветка выпрямлялась. Эрл читал, что ранку полагается высасывать, но дотянуться губами до пятки не мог. Давил ее что было сил, прижег спичками, расковырял ножом. И вот ранка нагноилась, от яда, от ковыряния, от спичек ли — неизвестно. Ступать было больно, куда идти — неизвестно. Эрл смутно представлял себе, что океан находится где-то западнее, но никак не мог найти запад в вечно сумрачном лесу. Быть может, он никуда не продвигался, кружил и кружил на одном месте. Так не лучше ли сесть на первый попавшийся ствол и дожидаться смерти, не терзаясь и не бередя воспаленную ногу?
А потом забрезжила надежда… И надежда доконала Эрла. Сидя на трухлявом бревне, он услышал гул, отдаленный, монотонный, словно гул толпы за стеной или шум машин в цеху. Толпа? Едва ли. Завод? Едва ли. Но может же быть лесопилка в джунглях, или автострада, или гидростанция — жизнь, люди! Собрав последние силы, Эрл поплелся в ту сторону, откуда слышался гул, а потом просочился и свет. Эрл оказался на опушке, у крутого известкового косогора, упиравшегося в небо. Натруженную ногу резало, на четвереньках Эрл взбирался на кручу, переводя дух на каждом шагу, взобрался, поднялся со стоном и увидел… водопад! И без гидростанции! Гудя, взбивая пену, крутя жидкие колеса и выгибая зеленую спину над скалистым трамплином, поток прыгал куда-то в бездну, подернутую дымкой, сквозь которую просвечивали кроны деревьев.
И обрыв был так безнадежно крут, а даль так беспредельно далека, что Эрл понял: никуда он не уйдет, никуда не дойдет, лучше уж сдаться, тут умереть.
Нет, он не бросился с кручи, просто оступился на скользких от водопадной пыли камнях, упал, покатился вниз по осыпи и ударился головой. Бамм! Черная шторка задернула сознание, и больше Эрл ничего не видел. Не видел даже, как белокрылая птица, парившая в синеве, осторожными кругами начала приближаться к нему, как бы присматриваясь, готов ли обед, не будет ли сопротивляться пища.
Муха села на край чернильницы, и Март кончиком пера столкнул ее в чернила. Как раз под конторой помещалась кухня, и сытые мухи, глянцевито-черные с зеленым брюшком, заполняли комнату младших конторщиков. Мухи водили хоровод вокруг лампы, разгуливали по канцелярским бумагам, самодовольно потирая лапки, с усыпительным жужжанием носились над лысиной бухгалтера. Никакие сетки на окнах, ни нюхательный табак, ни липкая бумага не помогали.
Конторщик поглядел, как барахтается утопающая в чернилах, и написал каллиграфическим почерком на левой странице:
“Пшеница Дюрабль IV категории.
Остаток со стр. 246: кг… 6529, г… 600”.
Девять лет изо дня в день Март записывал зерно. У зерна была категория, сорт, влажность, вес, цена, сортность, клещ. Конторщик в жизни не видел клеща, с трудом отличил бы пшеницу Дюрабль от ячменя Золотой дождь. Его дело было не различать, а регистрировать наличность. Девять лет изо дня в день зерно, записанное слева в приходе, медленно пересыпалось на правую страницу, в расход, и выдавалось по накладным за №… Потом приходила новая партия по наряду №… тоже с сортом, влажностью и клещом.
Девять лет текло зерно с левой страницы на правую. Девять раз в конце толстой книги Март подписывал: “Остаток на 31.XII… кг… г…” Это означало, что год прошел и до конца жизни осталось надписать на одну книгу меньше.
Муха выбралась все-таки из чернильницы и поползла по стеклу, волоча за собой лиловый след. Неприятно было смотреть на нее — горбатую, со слипшимися крыльями. Март стряхнул ее обратно в чернильницу, вздохнул и обмакнул перо.
Перо брызнуло, и на букве “о” расплылась большая клякса. Из кляксы выползла муха и заковыляла через все графы.
Март в сердцах сбросил ее на пол и раздавил. Страница была испорчена. Надо было начинать новую и писать терпеливо:
“Пшеница Дюрабль IV категории…”
Теперь, когда Эрл был мертв, он удивлялся, почему люди боятся смерти. Со смертью кончается страх, голод, тоска и неуверенность, на душе становится покойно. Если бы он мог, всем знакомым сказал бы: “Не бойтесь смерти! Страшен только страх”.
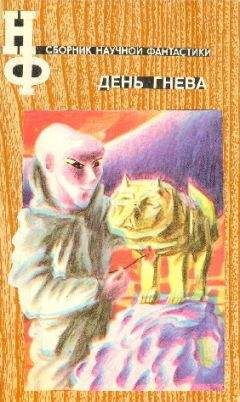
![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)