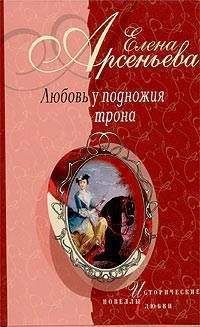- Послушай меня. Ты служишь в моем доме третий год и ни разу не дал повода для моего неудовольствия.
Сю-юн низко поклонился, в знак смущения прикрываясь веером. Узор из цветов сливы нежным розоватым тоном оттенял белизну его лица.
- Я оказался в долгу перед чужаками, - сказал У Тхэ. - Это неприятно. Вся Ы в долгу перед ними. Это очень неприятно. Я искал лучшего в кварталах Утренних расставаний или Созерцания ивы, или в театрах, или где только отыщется. Я видел всех. И не нашел того, кто мог бы удовлетворить всем требованиям. Один ты.
- Осмелюсь сказать: не понимаю, что это значит?
У Тхэ с треском раскрыл и закрыл веер.
- Они хотят такого как ты. Но такого нет. Есть только ты.
- Теперь понимаю. Как скоро мой господин расстанется со мной?
- Завтра.
- Благодарю, господин.
- Поскольку я решил, что ты будешь принадлежать повелителю Хайра, не годится тебе теперь проводить ночи... с кем угодно другим. Но бумага, по которой ты переходишь к новому хозяину, еще не составлена. Я подпишу ее завтра.
Сю-юн поклонился так, что локти его коснулись циновки, а голова легла между локтей.
- Благодарю, господин. Осмелюсь спросить: что, если я умру этой ночью? Тогда возьмете лучшего из тех, что есть, и...
- Ты не умрешь, - отрезал У Тхэ. - Ты хороший слуга.
Пришли попрощаться, проводили за ворота.
Сю-юн ехал в носилках, приоткинув занавеску. Набеленное лицо хранило неподвижность, полураскрытый веер лежал на коленях, едва придерживаемый небрежными пальцами. Только покачивались в такт шагам носильщиков подвески на шпильках, задевая воротники надетых одно на другое трех парадных одеяний.
У Тхэ, ступая важно, шел рядом с носилками.
Возле ив у поворота дороги он сделал знак носильщикам. Те остановились.
- Прощайте, - сказал У Тхэ, обращаясь к сидящему в носилках. - Не сомневаюсь, что будете наилучшим образом служить повелителю Хайра и не принесете позора сделавшему подарок.
- Не сомневайтесь, - церемонно склонив голову и сложив перед грудью руки, отвечал Сю-юн. Голос его был ровен, но веер разломился пополам с громким треском.
- Отдайте это, - протянул руку У Тхэ. - Не годится ехать к господину с поломанным веером.
- Что же - без веера? - едва слышно спросил Сю-юн, не смея взглянуть ему в глаза.
- Среди ваших вещей достаточно...
- Но все уложено в короба.
- Вот, - недовольный, У Тхэ протянул ему свой веер. - Вы позорите меня.
- Простите, - выдавил Сю-юн, наклоняясь так низко, что лоб его коснулся колен. У Тхэ махнул рукой носильщикам и обернулся к своим спутникам:
- Как неловко... извините, - и сунул за пазуху поломанный веер Сю-юна.
Дэнеш молча наклонил голову, провожая глазами удалявшиеся носилки.
- Дэнеш, может быть, вернуть... - шепнул Эртхиа.
- Это невозможно, не видишь? - краешком брови Дэнеш повел в сторону У Тхэ. Вельможа вопросительно наклонил голову.
- Владыка Солнечного престола выражает уверенность в том, что ваш слуга должным образом станет служить его царственному брату, - не моргнув глазом, объяснил Дэнеш.
- В этом не может быть никаких сомнений, - горделиво выпрямился У Тхэ.
- Вот видишь, - сказал Дэнеш, переведя его слова для Эртхиа.
О джаитах
День прошел в трудах, ставших привычными: подносили воду умирающим, закрывали тусклые глаза мертвым, переходили со ступени на ступень, обходили улицу за улицей.
- Она одолела, - сокрушался Илик.
- Мы не оставили их умирать в одиночестве, - напоминала Атхафанама.
Они ночевали, где придется, под любым кровом, оказавшимся поблизости, ведь хасса побуждала свои жертвы выбираться наружу в поисках воды, и улицы были страшны, а дома - пусты. Ноша их была невелика: кувшин и медная чашка у Атхафанамы, кувшин и медная чашка у Илика. Все остальное из необходимого они находили в домах и брали, не стесняясь, ибо принявший последний вздох умирающего причисляется к его наследникам. И были они наследниками всему городу. Только одно еще носил с собою Илик, котомку с инструментами и снадобьями, никому теперь не нужными в Аттане, потому что пришла хасса - и как не бывало других болезней.
Случалось им ночевать в лачугах, случалось - в богатых купеческих домах, так же оставленных обитателями.
- Запишу, что от хассы не отсидеться за стенами, - сказал Илик, со дня на день откладывавший необходимый труд. - Если успею.
- Садись и пиши, - сказала Атхафанама.
Они как раз устраивались на ночлег на кухне большого дома поблизости от базара. Как днем они не различали, кто врач, кто царица, кто кому должен прислуживать и подчиняться, так и в час отдыха не различали мужской и женской работы. Вдвоем открывали кладовые, разводили в очаге огонь, возжигали куренья - если находили, - готовили ужин (что попроще да побыстрее, а если что находили вяленого, съедали холодным, запивая подогретым вином). Мыться не пошли к водоему, непременному в саду такого большого дома. По опыту знали, что найдут там. Но в кухне оказался почти доверху наполненный высокий каменный кувшин. Так почти всегда бывало: хасса лишала памяти и разумения, и покидали дома в поисках воды, которой и дома было вдоволь. Раздевшись до пояса, они по очереди лили друг на другу на плечи подогретую воду, и не было между ними стеснения, потому что оба пережили уже свою смерть, а разве покойник стесняется тех, кто его обмывает? Шлепая босыми ногами, оставляя за собой мокрые следы, пошли искать по дому одежду. Атхафанама поднялась наверх, в женские покои. В комнате одной пол был застелен не аттанским ковром-стригунком, а плотно сбитым цветным-узорным войлоком. Колыбель пустая стояла у разворошенной постели, а рядом на ковре груда одежды: длинные вышитые на груди рубахи, безрукавки с нашитыми монетками и золотыми бляшками-уточками. И полосатые платки, и носки шерстяные, вязаные узорно - все дорогое памяти, из тех счастливых времен, когда милый Ханис был всесильным богом, пусть изгнанником, но не пленником уже - и еще не запредельно чужеродным, от кого не родишь... И Ханнар, бедная, еще не крала чужого мужа и не обрекала на смерть своего. И Атхи, бедная, луну за луной провожала, надеясь, что уж в следующую...
Вот когда царица повалилась на колени, зарылась головой в тряпки и завыла.
Илик прибежал, надавал царице оплеух, натянул первую попавшую в руки рубаху, отпоил вином, отругал, обнял и укачал, как маленькую.
Но она не стала спать, сказала, что голодна, и потащила Илика опять в кухню, по пути закатывая рукава, велела ему не мешать, сидеть тихо, а лучше заняться делом, пусть все умерли, что же, им и самим умирать, но пока они живы, и почему бы им напоследок не поесть, как людям, кто по ним тризну справит? А Илик пусть садится у огня и пишет - неужели в купеческом доме не найдется пергамента для записей? Все нашлось, Илик наполнил чернильницу, перепробовал каламы, устроился у очага - и закипела работа. Он сосредоточенно и торопливо писал, она металась по кухне, шипели и плевались горячим жиром сковороды, бурлило в котле, исходили паром горшки, стучал нож, ворчала Атхафанама, переворачивая сосуды для хранения пряностей - попробуй разберись в чужом хозяйстве!