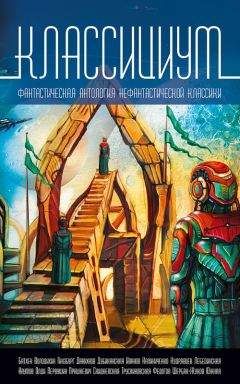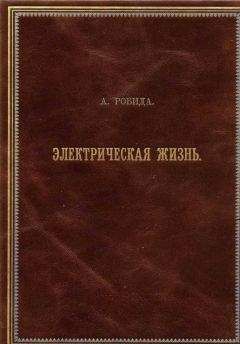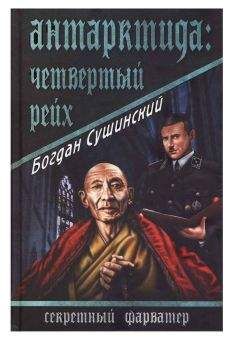3
Купе было двухместным, с удобными спальными местами, с пледами из шерсти альпака поверх белоснежного белья, накрахмаленного до приятного хруста. На столике, рядом с кипой глянцевых журналов и газет с кроссвордами, стояла ваза с живой каллой; её изящный белый граммофончик хорошо выделялся на тёмном экране, которым было наглухо задёрнуто окно. Дитрих видел, что взгляд Данина постоянно натыкается на этот цветок-извинение, призванный немного смягчить тяготы заточения в теплом, комфортабельном, но всё же закрытом и колыхавшемся пространстве.
Если бы не тёмно-серые глаза и белейшая кожа, какая бывает у жгучих брюнетов, Данин вряд ли сошёл бы за русского – с этими довольно длинными, смоляными, как у цыгана, волнистыми волосами, зачёсанными назад. Он отгребал их со лба растопыренной пятернёй. Жест был бодливым, Данин слегка наклонял голову вперёд и вдруг резко задирал подбородок. Сам Дитрих стригся коротко и решительно не одобрил бы выбор такой легкомысленной и беспокойной причёски, но Данин был вне критики.
Дитрих знал, что его выбрали для сопровождения такой важной персоны не только потому, что он прилично говорил по-русски и провёл с Даниным ту первую встречу в его квартире. У него было много достоинств: он был умным, хватким, проницательным, располагающим к себе и в свои сорок находился в прекрасной физической форме. Агентом немецкого отдела безопасности Консорциума он служил почти двадцать лет, имел награды и благодарности, но, к большому своему разочарованию, по-прежнему оставался в тени. Тому была причина. Вернер фон Браун, которому напрямую подчинялся их отдел, любил, когда его подчинённые не просто служили, а совершали подвиги; он обожал красивые карьерные истории, считая их лучшим стимулом для тридцати тысяч вверенных ему людей. Сейчас, например, в его кабинете висел усатый портрет в позолоченной раме, при виде которого желчь у Дитриха разливалась, как море. Увековеченный в масле капрал Мюнних получил фантастическую прибавку к скорой пенсии, гостил сейчас на всём готовом в родовом замке Вернера фон Брауна, стрелял в его угодьях уток, а домашний врач барона лично занимался его запущенной язвой. И всё потому, что капрал совершил подвиг, по мощи равный двенадцати подвигам Геракла. Когда схлынули первые эмоции и пришло время анализа, Дитрих скрепя сердце признал за капралом способность мыслить стратегически. Обнаружив, что по счастливой случайности рядом с ним оказался человек, которого много лет безуспешно разыскивали спецслужбы, капрал Мюнних тут же вспомнил, что числит в знакомцах швейцара элитного загородного клуба, где два раза в месяц, по воскресеньям, а тогда было именно воскресенье, любил бывать шеф. Первым делом Мюнних бросился к телефону, выяснил, что господин фон Браун в клубе, но как раз собирается отбыть, и пообещал швейцару немалую мзду, если тот, проявив известную сноровку, сумеет приблизиться к господину фон Брауну и передать ему следующее: «Вам звонит человек, который нашёл Красина». Так удачливый капрал никому не дал оттереть себя в сторону от своего подвига. Когда Дитрих услышал эту историю, ему впервые в жизни захотелось совершить по-настоящему крамольное – вырвать два клока волос, обеими руками, из своей и без того стремительно редеющей шевелюры. Но потом удача повернулась к нему лицом, ему поручили организовать поездку Петра Андреевича Данина в Россию. Пока готовился полёт на Марс, русские хотели, чтобы он вспомнил что-нибудь из детства, проведённого на родине. Дитриху не нужно было объяснять, что делать. Никогда еще поставленная перед ним задача не являлась столь лично значимой. Усилием воли он подавил в себе чёрную зависть к капралу Мюнниху, эту разрушающую силу, способную сокрушить психику любого, и сконцентрировался на осуществлении великой цели: он должен стать Другом Данина. Со всеми вытекающими из этого приятными последствиями – портретом, замком, утиной охотой, «Тайным орденом», присуждаемым героям их организации, и, конечно же, восторгом его молодой жены, обожаемой Гретхен.
К сожалению, всё пошло не туда и не так, как задумывалось. Едва ли не впервые в жизни сверхъестественное чутьё и почти колдовское обаяние подводили Дитриха. Данина всё раздражало. Он отказывался играть в шахматы и, невзирая на лошадиные дозы сыворотки правды, подсыпаемые во всё съедобное, отказывался вести беседы на интересующие Дитриха темы. Он постоянно жаловался, что ему душно, чай в серебряных подстаканниках был то жидким, то крепким, то слишком приторным, а в длинном зеркале на двери купе ему чудились по крайней мере призраки – так порой неузнаваемо при виде самого себя искажались его черты. В такие минуты Дитрих искал в его поведении следы панической атаки, этот явный признак клаустрофобии, но Данин, заметив его беспокойство, внезапно затихал и даже ободряюще ему улыбался. До следующего приступа раздражения.
Так, Польшу проехали в обстановке крайней нервозности. Данин сначала просто капризничал, потом начал капризничать затейливо – складывал из бумаги фигурки героев русских басен и мучил Дитриха выразительным декламированием оных. Знал он их без счёту. Потом забросил оригами, занялся кроссвордом, но, наткнувшись на фамилию Чехов, разволновался до покраснения щёк и пафосно поведал, что умершего Чехова-де не по-божески везли из Баденвейлера в Москву, в вагоне с устрицами его везли! Дитрих хладнокровно возразил, что Чехов скончался жарким июльским днём, и его тело отправили на родину в вагоне-холодильнике, в рефрижераторе, и что в этом, собственно, такого? Данин надулся, как ребёнок, к чему-то обозвал Померанию Помиранией и не иначе как из вредности схватился за любимую игрушку. Кот-баюн раз дцать спел про златые горы, пока наконец не лопнул, подлец, феерично рассыпав по купе свои гонорарные.
Собирая монеты, Дитрих в отчаянии думал о том, что его мечта разбилась о раздражение Данина, как о скалу. В этот самый момент, глядя, как человек много старше ползает на коленках, стараясь ему услужить, Данин устыдился, а устыдившись, смилостивился:
– Извините, господин Зальцман. Так о чём вы хотели поговорить?
Дитрих под купейным столиком на мгновение забыл человеческую речь. Он спешно вылез, отряхивая брюки, на которых не было ни пылинки, и ссыпал Данину в ладонь собранные монетки.
– О вашем детстве, господин Данин, о матери…
– Ах, о матери… – Данин протестно поджал узковатые губы, прищурился. – Знаете ли вы, господин Зальцман, как бывает тяжела неизвестность? Меня куда-то везут, как, случается, везут к ветеринару какое-нибудь больное животное, допустим, кота, – в закрытой переноске. Коту страшно, ему кажется, что его собираются утопить.