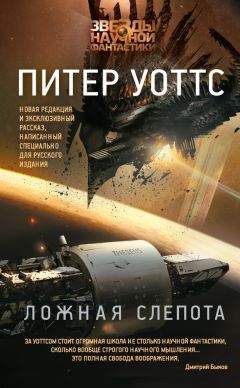Каннингему, наверное, показалось, будто он что-то заметил в моих глазах.
— Легче, когда не считаешь их людьми, — проговорил он, и в первый раз я смог прочитать подтекст, ясный и резкий, как битое стекло: "Хотя ты никого людьми не считаешь…"
* * *
Каннингему не нравилось, когда им манипулируют.
Никому не нравится. Но большинство людей не думает, что я этим занимаюсь. Не знает, до какой степени тела предают их, когда они закрывают рот. Если они говорят вслух, значит, хотят довериться тебе, а если молчат, им кажется, что они держат свое мнение при себе. Я так пристально наблюдаю за ними, подгоняю каждое слово, лишь бы ни одна система не заподозрила, что ее используют, — и все же по какой-то причине с Робертом Каннингемом метод не сработал.
По-моему, я не ту систему моделировал.
Представь себе, что ты синтет. Ты занимаешься поведением систем на гранях, по отражениям в них вычисляешь свойства внутренних механизмов. В этом тайна твоего успеха: ты понимаешь систему, познав отчертившие ее границы.
Теперь представь человека, который пробил в своих границах дыру и выплеснулся наружу.
Плоть была не в силах вместить Роберта Каннингема. Долг вырвал его за пределы куска мяса; здесь, в облаке Оорта, его графы распростерлись по всему кораблю. До определенной степени это относилось ко всем нам; Бейтс и её роботы, Сарасти и его лимбический коннект — даже накладки КонСенсуса в наших мозгах немного рассеивали нас, на самую малость выводя за границу собственных тел. Но Бейтс лишь управляла своими роботами; она не подселялась в них. Банда четырех на одной материнской плате запускала несколько систем, но каждая имела свою характерную топологию, и выступали они поочередно. А Сарасти…
Ну, Сарасти — совсем другое дело, как оказалось.
Каннингем своими манипуляторами не просто управлял: он скрывался в них, носил, точно шпионскую легенду, скрывая слабого нормала внутри. Он пожертвовал половиной неокортекса ради возможности видеть рентген и на вкус ощущать конформации клеточных мембран, он выпотрошил одно тело, чтобы стать мимолетным постояльцем множества. Кусочки его таились в датчиках и манипуляторах, усеявших стенки вольеров; я мог бы извлечь ключевые намеки из каждого прибора в медицинском отсеке, если бы сообразил поискать. Каннингем, как и все, был топологической головоломкой, но половина ее кусочков пряталась в машинах. Моя модель оказалась неполной.
Не думаю, чтобы он рвался к подобному состоянию. Оглядываясь, я вижу ауру ненависти к себе на каждой грани, какую ни вспомню. Но на исходе двадцать первого века единственной альтернативой, какую он видел, была жизнь паразита. Каннингем выбрал меньшее зло.
А теперь даже в этом ему отказали. Приказ Сарасти отсек его органы чувств. Биолог больше не воспринимал данные нутром; ему приходилось интерпретировать их, шаг за мучительным шагом, сквозь диаграммы и графики, сводившие восприятие к пресной и скучной скорописи. Передо мной стояла система, изувеченная множественными ампутациями. Система, чьи глаза, уши и язык вырезали, вынужденная на ощупь, вслепую искать дорогу среди предметов, которые она прежде населяла изнутри. Внезапно ему стало негде прятаться, и разнесенные ветром осколки Роберта Каннингема собрались обратно во плоти, где я смог, наконец, их разглядеть.
В этом с самого начала заключалась моя ошибка. Я так сосредоточился на моделировании других систем, что совсем забыл о той, что строит сами модели. Единственный враг ясного зрения — слепота: неверные посылки могут стать шорами, и недостаточно было представить, что я — Роберт Каннингем.
Приходилось одновременно представлять, что я — Сири Китон.
* * *
Конечно, после этого встал новый вопрос. Если догадка относительно Каннингема верна, почему же мои приемы срабатывали с Исааком Шпинделем? Тот был столь же дискретен, как и его преемник.
В тот момент я недолго раздумывал над этим. Шпиндель погиб, а убийца его оставался с нами — парил под носом у "Тезея" титанической, разбухшей головоломкой, готовой в любую секунду раздавить нас. Так что я изрядно отвлекся.
Но теперь — когда уже слишком поздно что-то делать — я, кажется, понял ответ.
Возможно, мои приемы не срабатывали и с Исааком. Возможно, он подмечал мои махинации с той же легкостью, что и Каннингем. Но ему было все равно. Возможно, я смог прочитать его, потому что он мне позволил. А это значило — не могу подобрать другого объяснения — только одно: несмотря ни на что, я пришелся ему по душе.
Пожалуй, это делало его моим другом.
… Если б смог я пробудить
словами чувство
Ян Андерсон "Повод ждать"[74]
Ночная вахта. Не шелохнется никакая тварь.
Не на борту "Тезея", по крайней мере. Пряталась в палатке Банда. Таился в невесомой тиши глубин хищник-мигрант. Бейтс сидела в рубке — она туда фактически переселилась, угнездившись среди тактических диаграмм и угловых полей, и бдела неусыпно. Ей некуда было обернуться, чтобы не узреть один из аспектов плывущей впереди по штирборту энигмы. Она делала, что могла и сколько могла.
Вертушка кружилась неслышно; из почтения к циркадному ритму, который сто лет тюнинга и ретринженерии не смогли выполоть из наших генов, Капитан пригасил фонари. Я сидел на камбузе один, прикрыв глаза, выглядывая из сердцевины системы, контуры которой размывались в последнее время все сильнее и сильнее, — пытался составить очередное… как там Исаак выразился?… письмо в вечность. На другой стороне барабана, вися в положении вниз головой, работал Каннингем.
Только биолог на самом деле не действовал. Он даже не шевелился, и уже самое малое четыре минуты.
Я предположил, что он читает кадиш по Шпинделю — КонСенсус подсказывал, что молиться надо дважды в день на протяжении года, если мы столько проживем, — но теперь, выглянув из-за спинного хребта в центре вертушки, я мог читать его грани столь же ясно, как если бы сидел с ним рядом. Биолог не заскучал, не отвлекся, не задумался даже.
Роберт Каннингем оцепенел.
Я встал, прошелся по вертушке. Потолок переходил в стену; стена — в пол. Я стоял настолько близко, что слышал нескончаемый бормочущий шепоток, единственный невнятный слог, повторявшийся снова и снова; настолько близко, что мог разобрать, что он лепечет…
— …чертчертчерт…
…И все же Каннингем не шевельнулся, хотя я не сделал даже попытки скрыть свое появление.
В конце концов, когда я заглянул ему через плечо, он замолк.
— Ты слепой, — изрек он, не оборачиваясь, — знаешь?