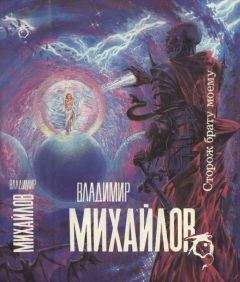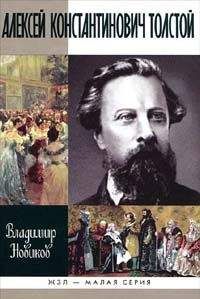— Не знаю… На Земле… Не представляю, как там. Мне кажется, там нехорошо. У нас тут лучше. Не надо на Землю. Надо, чтобы тут, у нас, ребятам разрешили придумывать, что они хотят, а нам — иметь столько детей, сколько нужно каждой, чтобы она была счастлива. И не надо никуда ехать. Я не хочу на Землю.
— А как же я?
Анна нахмурилась.
— Ты? Ну, если захочешь, сможешь остаться здесь…
— С тобой?
Но это в последние дни стало запретным направлением.
— Я сама не знаю. Не надо об этом.
— Нет, давай все-таки… Ты меня не любишь?
— Знаешь, что-то прошло, пока тебя не было… Нет, не хочу говорить.
— Тогда, может, мне лучше совсем уйти?
Я говорил это, словно действительно мог уйти — сесть на поезд и уехать куда-то. Но здесь не было поездов, и никуда я не мог уехать — от корабля, от товарищей, от нее…
— Нет! Мне с тобой хорошо.
— Но тогда почему же нам не…
— Хорошо так, как есть. Не хочу, чтобы было иначе.
— Так не может продолжаться долго.
— Ах, не знаю, я прошу — не надо об этом. Мне самой непонятно. Но если ты думаешь, что тебе надо уйти, — уходи. Мне будет горько, но — уходи…
Для продолжения разговора следовало бы сказать: и уйду. Сейчас возьму и уйду. И больше мы с тобой никогда не увидимся. Но уйти было некуда.
— Пойдем в лес?
— Пойдем…
Мы прошли метров триста и остановились.
— Не надо!
— Слушай…
— Ну не надо. Я обижусь.
— Но ведь раньше…
— А теперь нельзя. — И она отступила.
Я уныло сел на толстый, гниющий на земле ствол. Анна стояла вблизи, обрывая иглы со сломанной ветки. Потом подошла и села — не совсем рядом, но близко.
— Обиделся?
— Нет, — сказал я, и это было правдой. — Разве я могу на тебя обижаться?
— Расскажи что-нибудь. Ты ведь обещал о многом рассказать мне. Обо всем, чего я не знаю. Например, как ты жил на Земле. Что ты там делал? Пахал? Строил? Мастерил вещи? Или, может быть, рисовал картины? Писал стихи?
— Стихи я, конечно, писал — в молодости… Ну, если говорить о последних годах, то я тренировался вместе с товарищами, готовился к этому вот полету.
— А раньше?
— Занимался многими вещами. Пытался найти самого себя. Но, видишь ли, я, видно, из тех людей, что могут найти себя только через другого человека, только отражаясь в другом.
— Разве можно столько лет искать самого себя? Какая от этого польза другим людям?
— Не знаю… Но, конечно, я все время что-то делал.
— Скажи, а то, что вы хотите сделать с нами… что это дает тебе? Ну вот именно тебе… Ты нас так любишь? Или тебе неприятно, что может погибнуть мир? Или еще что-то? Ведь если мы все-таки погибнем, ты все равно будешь жить, да?
Я ответил не сразу. Буду ли жить? Наверное… Это, конечно, будет неудачей, горем, но расхочется ли мне тогда жить?
— Здоровье у меня хоть куда, — сказал я как можно легкомысленнее. — Но к чему сомнения? Мы спасем вас.
— И если спасете, ты будешь считать, что сделал главное? То, ради чего стоило жить? Значит, вы спасаете нас ради самих себя?
— Ну, — сказал я, — всякое дело человек делает прежде всего для себя. Потому что иначе не может. А если и может, то не хочет. Он выполняет свою волю, свое желание. Для себя — и для других. Важно, чтобы не для себя одного. А тебе чего хотелось бы?
— Мне хочется, чтобы делали ради нас. Чтобы делали даже в том случае, если вам потом станет не лучше, а хуже. Чтобы была боль. Потому что тогда мы остались бы связанными надолго. Вот вы привезете нас на Землю или еще куда-нибудь. Вы ведь не останетесь с нами, снова приметесь за свои дела и будете считать, что сделали для нас все, что должны были. А мы…
— Вас не бросят. Будут люди, которые помогут вам.
— А ты?
— Я? Мы с тобой уедем куда-нибудь на несколько месяцев, на пол года… Уедем отдыхать, уедем жить.
— Ладно, — сказала она, помолчав. — Вернемся.
— Я так и не понял, что ты хотела узнать.
— Я и сама не понимаю, Уль. Наверное, я спрашивала не то, что нужно. В самом деле, чего мне еще? Ты меня любишь…
Она сказала это не тоном вопроса, а легко, просто, как тривиальную истину. Она была уверена — и не зря, потому что так оно и было.
— Ты меня любишь, и с тобой, наверное, было бы хорошо…
— Почему — «было бы»?
— Знаешь, потом я, наверное, буду жалеть, что не согласилась.
Тут я поспешно заявил:
— Погоди, погоди! Не время сейчас ни соглашаться, ни отказываться. Еще подумай. Я пока не задавал тебе вопроса. Так что и не надо отвечать на него. Вот когда я прямо спрошу: да или нет — тогда ответишь. А пока не надо…
Мне стало страшно. Время, думал я, время — и обстановка. Позже, на корабле, и на Земле, сами обстоятельства вынудят ее ухватиться за меня. Сейчас она сомневается, но со временем сомнения станут истолковываться в мою пользу…
— Хорошо, — сказала она. — Только я не люблю тебя, вот в чем беда. Если бы тогда, сразу…
— Нет, — сказал я. — Тогда, сразу — не надо было.
— Все равно, сейчас поздно говорить об этом. Хорошо, я пока буду молчать.
— А я все равно буду надеяться, — сказал я. — Может быть, пройдет время, и ты…
— Да, — послушно согласилась Анна. — Может быть. Пойдем?
Я взглянул на часы. Отдохнули достаточно. Нет, отпуска на любовь я не получу. Пора лететь.
Но лететь надо было мне одному. Иеромонах сейчас помочь не мог, а рисковать Анной — мало ли что могло там случиться — не стал бы и последний подонок. И когда мы с ней вернулись к катеру, я сказал небрежно:
— Ладно, раз так, я слетаю в лес. Вы оставайтесь. Ты, Никодим, поройся основательно. Я еще раньше подумал, что тут у них как раз была площадь, поищи что-нибудь на ней. — Я понизил голос. — И смотри… что бы ни было, с Анной ничего не должно случиться.
— Не бойся, — буркнул он. — Она за наши грехи не ответчица. Только не забывай: время-то идет…
— Постараюсь не забыть. Ну, Анна… — Я помолчал, чтобы сказать ей все, что хотел, — мысленно, разумеется. — Я ненадолго.
Она улыбнулась и помахала рукой.
* * *
Я посадил катер прямо в поселке, заранее представляя, как сбегутся люди, как будут удивляться и качать головами, и осторожно дотрагиваться до катера, а потом, разинув рты, слушать меня. Но получилось не так. Я опустился, медленно откинул купол, неторопливо вылез. Никого не было, а ведь сверху я видел людей. Я обошел катер, похлопал ладонью по борту; однако прошло пять минут, пока наконец не появились первые зрители.
Но это были не те, кого я ждал. Это были мальчишки.
Побаиваясь, они подступили, зачарованные, не отрывая глаз от моего кораблика, покрытого тонкой пленочкой нагара, дышащего теплом и непонятными для них запахами, таинственного и неотразимого. Он был, как питон, а они — словно кролики; сами того не желая, они делали шаг за шагом — уже не шаги, а шажки, чем ближе, тем короче, — и подступали обреченно, боясь и не противясь. Я видел, как высоко поднималась грудь каждого, как блестели глаза, как ручонки вздрагивали, потому что им уже невтерпеж стало. Я пожалел их неутоленное любопытство и сказал: