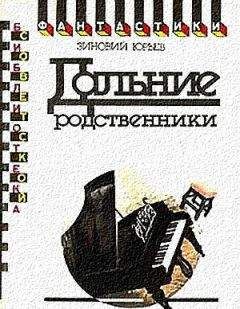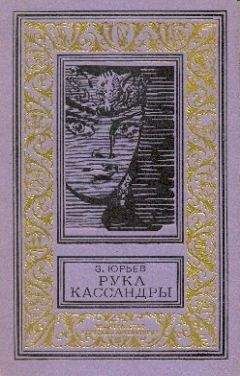В дверь просунул голову Ефим Львович.
— Юрий Анатольевич, вас Пузырь требует.
— Пузырь?
— Простите, я хотел сказать директор.
— Ах да, я сразу не сообразил. Спасибо.
Директор молча кивнул ему и так же молча подтолкнулнул к нему по полированной поверхности стола лисюк бумага. Юрий Анатольевич увидел слово «заявление» и начертанное наискосок красной шариковой ручкой «Моисееву».
Он взял листок и начал читать: «психические заболевания… врач Моисеев Ю. А…вместо лечения… бредовые россказни… будущее… компрометирует…» И подпись, крупная и величественная, как ее владелец: Котомкин И. С., член КПСС, персональный пенсионер республиканского значения.
Юрий Анатольевич почувствовал, как кровь стремительно прилила к его щекам, как будто ее гнали мощным насосом, и его всего обдало жаром. Сердце споткнулось раз-другой и понеслось аллюром. Кроме Елены, сказать было некому. Она не могла сказать. И кому? Этому булькающему величественному кретину? А почему, собственно, не могла? Нет, не могла… Но кто же тогда? Анна Серафимовна? Смешно. Ефим Львович? Они с Котомкиным давно уже не разговаривают. А, Константин Михайлович, ну, конечно же… Ему почему-то очень хотелось верить, что именно Константин Михайлович рассказал Котомкину о путешествиях Владимира Григорьевича. Он даже попытался представить себе сцену: Константин Михайлович теребит, как обычно, пуговицы на своей рубашке и говорит Котомкину: «А Владимир Григорьевич-то… то-го…» — «Что того?» — «Ездил в будущее…» Нет, не получалась эта сцена. Не настолько глуп булькающий Иван Степанович, чтобы написать заявление на основании слов бедного Константина Михайловича. Нет. Дас ист невозможно.
Но тогда… Как ни отталкивал от себя эту мысль Юрий Анатольевич, она все равно наплывала на него, холодила промозглым тягостным туманом: Леночка. Больше некому.
А почему, в сущности, он так разволновался, что случилось? Леночка искренне убеждена, что Владимир Григорьевич нездоров, что его нужно лечить, что ему нужна квалифицированная психиатрическая помощь. Она этого и не скрывала. Разве она не говорила ему, что он не должен замалчивать такой случай? Разве не говорила, что, вылети он в окошко в очередном путешествии, с него же спросят? Говорила. И справедливо говорила, потому что… потому что… что потому что? Потому что беспокоится за него? Или за старика Харина?
Но почему он так легко капитулировал? Почему так легко и быстро примирился с тем, что Владимир Григорьевич ненормален, почему думает только о том, от кого узнал Котомкин о собраниях в шестьдесят восьмой комнате, как будто именно это имеет решающее значение, а не сам Владимир Григорьевич.
Он так явственно увидел перед собой Харина — невысокого, с треугольничком худенькой цыплячьей грудки, покрытой седым пухом между лацканами пижамы, с умными живыми глазами. И голос: милые друзья мои…
Неужели предаст, подумал он, и вопрос был тягостный, как была тягостной мысль о встрече Владимира Григорьевича с психиатром. Не могли, не должны были соприкасаться хроностанция, порхающий Прокоп в переливающемся комбинезоне и психиатр. Он даже не умел объяснить себе почему, он просто чувствовал это нутром, всем своим небогатым врачебным и жизненным опытом. Не должны были соприкасаться эти вещи, как не должны соприкасаться материя и антиматерия, ибо их соединение уничтожает друг друга.
Он вдруг сообразил, что давно уже стоит перед директором, держит в руке заявление Котомкина, и Пантелеймон Романович молча смотрит на него, втянув голову в покатые плечи.
— Я подумаю, что делать, — сказал он.
— Да, да, — кивнул директор и облегченно уткнулся взглядом в свои руки, что привычно лежали перед ним на столе.
Нужно поговорить с Леночкой, подумал Юрий Анатольевич, у нее светлая головка, она не впадет в панику от любой чепухи, как он. Она все расставит по местам, мигом наведет порядок в его растрепанной душе. У нее удивительные руки. Все вещи любили ее руки, от шприцов до него самого, все так и тянулись навстречу им.
Когда он вошел в Леночкин пенал, она сидела за своим столиком и что-то писала, склонив головку набок. И кончик языка высунула. Наверное, именно так она выглядела, когда писала в школе сочинения. Онегин как представитель… Да чей бы ни был он представитель, хоть бы коллектива ветеранов сцены…
— Угадай, Юрчонок, что я сочиняю, — сказала Леночка. Она не посмотрела на него, но знала, кто вошел.
— Инвентарную ведомость. Простыней желтых куцых столько-то…
— А вот и нет. Смотри,
Она протянула ему листок, и он прочел:
«Меняем двухкомн. кв. 28 м, кухня 6 м, метро «Коломенское» и однокомн. кв. 20 м, кухня 10 м, метро «Речной вокзал» на трехкомнатную кв. от 40 м».
— Все говорят, это прекрасный вариант, — сказала Леночка. — Можно было получить и большую, но ведь на троих могут не дать. Теперь, говорят, такие строгости. А что, если большие подсобные помещения, и сорок метров немало. Главное — чтоб кухня была просторная. А то в нашей шестиметровой и повернуться вдвоем нельзя. Ты согласен?
Он держал ее за плечи, и плечи под халатиком привычно поерзали, находя удобное положение под его ладонями, и мир был прост и приятен, потому что состоял в основном из этих теплых плечей.
— Чего ты молчишь?
— Что? А, да, конечно, согласен.
Он усмехнулся. Глупышка. Да если бы она предложила сменяться на дырявый сарай в ста километрах от Москвы, он был бы так же счастлив.
— Сегодня же дам объявление… А на тебя жаловались, — сказала Леночка.
— Кто?
— Котомкин. Этот, который булькает. Хотел повторить курс инъекций витаминов и никак не мог к тебе попасть. Сидит, говорит, врач все время у Харина.
Юрий Анатольевич почувствовал какое-то неприятное стеснение в груди. Котомкин. Неужели он был прав, тоскливо задал он себе риторический вопрос, который не нуждался в ответе. Уравнение допускало только одно решение, и за двумя черточками в правой его стороне стояли Иван Степанович и Леночка. Он достал из кармана халата заявление и положил его перед медсестрой.
— Вот.
Леночка прочла его, коротко пожала плечами, посмотрела снизу вверх на врача.
— Ну и что? Демагог, конечно, этот Котомкин, но по существу…
— Что по существу?
— По существу он прав, нельзя оставить больного человека без помощи, мы ж говорили с тобой об этом.
— Да, но…
— Юрчоночек мой глупенький, — сказала Леночка и потерлась щекой об его живот. — Ну разве можно быть таким… таким мнительным? Чего ты разволновался? Надо пригласить специалиста, чтобы он посмотрел Харина. Ну и что? Что ты его, на каторгу отсылаешь? Да я уверена, что его и в больницу незачем будет брать. Они вообще не любят брать стариков. Тем более что он же не буйный. Даст что-нибудь, какие-нибудь транквилизаторы, не знаю. Но главное, ты будешь спокоен, ты выполнил свой врачебный долг. Даже если есть один шанс из ста, что Владимир Григорьевич выкинет что-нибудь эдакое, ты будешь знать, что сделал все от тебя зависящее.