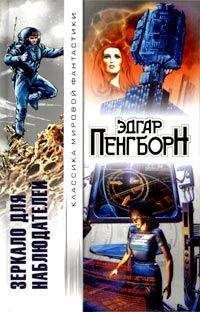Он наконец заставил себя поспать. Я пообещал разбудить его, если в состоянии Шэрон наступят какие-нибудь изменения. Конечно я его разбужу. Невероятно, но, несмотря на всю марсианскую и человеческую науку последних тридцати тысячелетий, я совершенно бессилен. Все, что мне остается,— это сидеть здесь, смачивать ее губы, смотреть и ждать.
21 марта, вторник, ночь
Она все еще без сознания, но температура упала до 98,7[63]. Дыхание отличное, да и дышит она теперь не только ртом. Было несколько очевидных глотательных движений. Вечером видел, как слабо шевельнулась ее рука, но возможно, это всего-навсего плод моего воображения. Абрахам не видел, а я промолчал из боязни выдать желаемое за действительное. Думаю также, что несколько минут назад, когда я щупал ее пульс, было слабое ответное движение, но и здесь я мог ошибиться. В любом случае пульс хорош: постоянный, сильный, слегка замедленный — никакой неравномерности, которая была так заметна при высокой температуре.
Они рекомендуют стимуляторы и жидкую пищу, как только больной сможет глотать. Но сначала она должна прийти в сознание. Долгожданный момент наступит. И ужасные впадины на ее щеках, которые появились в последние сорок восемь часов, исчезнут. У нас все время наготове кофе и теплое молоко. Покупка пищевых продуктов снаружи, вероятно, оказалась бы сложным делом, но мы нашли на кухне доверху наполненный холодильник, да и подача энергии до сих пор не прерывалась. Кроме того, есть еще четырех-пятидневный запас консервов. И когда мы обессиленно перекинулись Абрахамом несколькими словами, мы уже считали само собой разумеющимся, что она очень скоро откроет глаза и увидит нас. Абрахам часто разговаривает с нею. Разумеется, она не отвечает, но мне показалось, что когда он поцеловал ее, маска непонимания на ее лице чуть дрогнула.
Мы коснулись в этот вечер и другой темы. Я хотел вывести Абрахама из состояния внутреннего неистового самосуда. Я говорил о том, что когда пандемия пройдет, человеческое общество, насколько мы его знаем, уже никогда не сможет быть таким, каким оно было до катастрофы.
— Оно должно знать,— сказал Абрахам,— что пандемия явилась делом рук человеческих. Этот факт должен дойти до них, войти в их плоть и кровь. А их праправнуки, думаю, должны помнить о случившимся еще лучше.
— Люди уже знают.— И я рассказал ему о том, что содеял сам и что совершила толпа.
— Думаю, вы были правы...
— Этого я никогда не узнаю, Абрахам. Содеянное содеяно, и мне остается только судить себя до конца жизни... и, вероятнее всего, приговорить к повешению.
— Если мое мнение хоть чего-нибудь стоит, вы поступили правильно. Но этого мало. Когда все закончится, Уилл, я должен буду обо всем написать, обо всем что знаю... В конце концов Ходдинг и Макс мертвы — кто еще может рассказать? И каким-то образом мне надо будет проследить, чтобы не планете не осталось уголка, которого не достигла бы правда.
— А нужна ли будет людям правда, Абрахам, когда все закончится? Что если ты, например, обратишься к властям, а они скажут: "Где доказательства?"
— Ну, тогда я мог бы соврать и заявить, что сам приложил к случившемуся руку. Если это единственный способ предать факты гласности...— Плохо по нескольким причинам...— О, Уилл, разве важна судьба отдельной личности, когда все, что...
— Важна, но не в этом главная причина. Ты посмотри на свое предложение с другой точки зрения... Если ты поступишь таким образом, ты станешь козлом отпущения и ничем больше. Ты знаешь, зачем людям нужны козлы отпущения? Чтобы избежать необходимости смотреть на самих себя! Ведь именно в нашем мире может процветать Джозеф Макс. И все граждане — ты, я, любой — ответственны за то, что они допускают существование такого мира, за то, что они не стремятся жить в другом, лучшем мире. Мы прекрасно понимаем этические требования. Мы способны понимать их на протяжении уже нескольких тысячелетий. Но мы никогда не хотели, чтобы этим требованиям подчинялись наши собственные поступки. Вот и все... Реализуй себя в долгом труде, Абрахам, а не в красивом жесте или в оставшейся никем не замеченной жертвенности. На уровне личности... Я всегда видел в себе особое пламя, более яркое, чем в других. Я всегда любил тебя... И потому я запрещаю тебе отдавать себя на бессмысленное распятие!
Через некоторое время он спросил меня, себя и безжизненно лежащую, но живую девочку:
— Принятие противоречий — это зрелость?
А я тихо — только себе самому — ответил: "Миссия завершена".
22 марта, среда
Рано утром, перед самым рассветом, она подняла к лицу руку, и глаза ее открылись — огромные, понимающие, полные узнавания.
— Шэрон!..
— Я в порядке,— прошептала она.— Я в порядке. Эйб.
— Да, ты выкарабкалась. Ты...
— Дорогой, не шепчи. Я хочу слышать твой голос.
— Шэрон! Шэрон!..
— Я не слышу тебя, Эйб,— сказала Шэрон Брэнд.— Я тебя не слышу!!!
34 июля 30972 года, борт парохода "Дженсен", рейс Гонолулу — Манила
Вечно меняющийся и вечно неизменный океан этой ночью был разбужен серьезной музыкой. Я был одинок и не совсем одинок. А вообще-то, и совсем не одинок, потому что несколько часов смотрел вниз с носа плывущего корабля, видел искорки медленно поднимающихся и опускающихся светящихся микроорганизмов, этих живых морских бриллиантиков. Их свечение сто же мимолетно, как океанская пена, и столь же вечно, как жизнь. Если жизнь вечна... Все плыло со мной — и хранимые в памяти лица, и по-прежнему звучащие слова, хотя рядом со мной уже нет тех, кто их произносил. Вместо них говорит без умолку океан да непрерывно шумит западный ветер. Нет, я не одинок.
По нашим оценкам времени, мой второй отец, не так уж много прошло с тех пор, как я расстался с вами в Северном Городе: десять лет — миг, не более... А когда, через несколько недель или месяцев, я снова окажусь с вами, это покажется и вовсе ничем.
У вас есть мой дневник. Теперь, когда время притупило боль и погасило ярость, я должен попросить, чтобы вы уничтожили письмо, которым я сопроводил свой дневник. Я написал его всего через день после того, как выяснилось, что Шэрон оглохла. Мне бы следовало сто раз подумать, прежде чем писать что-либо в такой момент. Это было за несколько недель до того, как я отважился поручить мой дневник искалеченной транспортной системе человечества, не имея ни малейшей надежды на то, что до он доберется до Торонто и будет препровожден к вам. Впрочем, за те недели гнев и отчаяние так и не отпустили мою душу, и, по-видимому, я и позже не смог бы написать ничего лучшего. Теперь, однако, я прошу вас уничтожить мое письмо. Из гордости и тщеславия, а также в виду того, что мои дети уже достаточно взрослы, чтобы изучить мою работу. Мне бы не хотелось, чтобы настроение тех дней осталось увековеченным. Приложите к дневнику послание, которое я пишу сейчас, и выкиньте письмо, родившееся в ту пору, когда я был слишком подавлен, чтобы осознавать, о чем говорю.