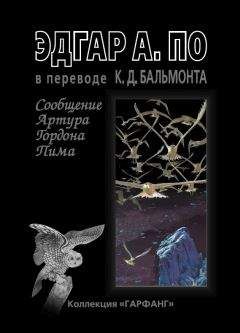Мой товарищ показал мне, что одна сторона ящика по желанию могла быть сдвинута. Он заставил ее соскользнуть в сторону и показал мне внутреннее помещение, чем я был превесьма позабавлен. Матрац с одной из коек каюты покрывал целиком дно ящика, и там находились всевозможные предметы настоящего комфорта, какие только могли поместиться в таком малом пространстве, в то же время предоставляя мне достаточно места, чтобы устроиться или в сидячем положении, или в лежачем во весь рост. Среди других вещей там было несколько книг, перья, чернила и бумага, три шерстяных одеяла, большой кувшин, полный воды, бочонок морских сухарей, три или четыре огромных болонских колбасы, громадный окорок, холодная баранья нога и полдюжины бутылок целительных настоек и крепких напитков. Я тотчас вступил в обладание моим маленьким обиталищем, и с чувством большего довольства, чем то, какое, я уверен, испытывает монарх, входя в новый дворец. Август указал мне способ закреплять открывавшуюся стенку ящика и потом, держа свечу близко к деку, показал конец темной бечевки, которая проходила вдоль него. Она была протянута, сказал он, от моего убежища через все необходимые извилины среди хлама, к гвоздю, вогнанному в дек трюма, как раз под дверью трапа, ведущего в его каюту. С помощью этой бечевки я мог хорошо найти дорогу и выйти без его помощи, если бы какой-нибудь непредвиденный случай сделал такой шаг необходимым. Затем он ушел, оставив фонарь с обильным запасом свечей и фосфора и обещая навещать меня так часто, как только сможет, не вызывая чужого внимания. Было семнадцатое июня.
Я оставался в моем тайнике три дня и три ночи (как приблизительно я мог заключись), не выходя из него, исключая два раза, что я сделал, дабы расправить члены, стоя выпрямившись между двух плетенок, как раз против отверстия. В продолжение всего этого времени я ничего не знал об Августе, но мало тревожился, ибо мне было известно, что бриг каждый час намеревался выйти в море и в суете мой друг нелегко мог найти удобный случай спуститься ко мне. Наконец я услыхал, как трап открылся и закрылся, и сейчас же Август позвал меня тихим голосом, спрашивая, все ли благополучно и не нужно ли мне чего-нибудь. "Ничего, – ответил я. – Мне так удобно, как только может быть; когда бриг отплывает?" – "Он снимется с якоря скорее чем через полчаса, – отвечал он. – Я пришел дать тебе знать об этом и сказать, чтобы ты не тревожился о моем отсутствии. Некоторое время у меня не будет возможности спускаться вниз – может, приду не раньше трех-четырех дней. Все идет хорошо наверху. Когда я уйду туда и закрою трап, проползи вдоль бечевки до места, где вогнан гвоздь. Ты найдешь там мои часы – они тебе пригодятся, а то у тебя нет дневного света, чтобы узнавать по нему время. Я думаю, ты не можешь сказать, как долго ты был погребен – только три дня, сегодня двадцатое. Я бы принес часы к твоему ящику, да боюсь, меня хватятся". С этим он ушел.
Полчаса спустя после его ухода я ясно почувствовал, что бриг в движении, и поздравил себя с прекрасно начатым наконец путешествием. Довольный этой мыслью, я решил настроить мой ум возможно веселее и ожидать, когда ход событий настолько двинется вперед, что мне будет позволено переменить ящик на более обширное, хотя и вряд ли более удобное, помещение каюты. Моей первой заботой было достать часы. Оставив свечу зажженной, я ощупью стал пробираться в темноте, следуя по бечевке, вдоль по бесчисленным извилинам; некоторыми, после того как я долгое время пробирался, я был снова приведен назад, на фут или два от прежнего места. Наконец я достиг гвоздя и, обеспечившись предметом моего странствия, благополучно возвратился с ним. Теперь я стал рассматривать заботливо приготовленные книги и выбрал экспедицию Льюиса и Клэрка к устью Колумбии. Я услаждался этим некоторое время, пока на меня не напала дремота, и, потушив свечу с большой осторожностью, я вскоре погрузился в крепкий сон.
Проснувшись, я почувствовал странную спутанность в моем мозгу, и протекло некоторое время, прежде нежели я мог припомнить все разнообразные обстоятельства моего положения. Постепенно, однако, я вспомнил все. Я зажег свет и посмотрел на часы; но они остановились, следовательно, не было возможности определить, как долго я спал. Члены мои сильно свела судорога, и я принужден был дать им отдых, стоя между корзин. Вдруг почувствовав почти бешеный голод, я вспомнил о холодной баранине, которой я несколько поел перед тем, как заснуть, и которую нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что она была в состоянии полного разложения. Это обстоятельство привело меня в большое беспокойство; ибо, сопоставляя это со спутанностью моего ума, которую я испытывал проснувшись, я начал предполагать, что, верно, я спал в продолжение необычайно долгого времени. Спертая атмосфера трюма могла тут что-нибудь да значить и в конце концов могла привести к самым серьезным последствиям. У меня ужасно болела голова; мне казалось, что каждый раз я с трудом перевожу дыхание; словом, я был подавлен множеством мрачных ощущений. Тем не менее я не мог рискнуть поднять тревогу, открыв трюм или иначе, и потому, заведя часы, удовольствовал себя как умел.
В продолжение всех следующих томительных двадцати четырех "часов никто не пришел мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубейшем невнимании. Главным образом беспокоило меня, что вода в кувшине уменьшилась до половины пинты, и я очень страдал от жажды, ибо щедро поел болонской колбасы, утратив мою баранину. Мне стало очень не по себе, и я не мог больше интересоваться книгами. Кроме того, меня обременяло желание спать, и я дрожал при мысли поддаться этому, из опасения, что здесь, в спертом воздухе трюма, могло быть вредное влияние, как от горящего древесного угля. Меж тем ровная качка брига говорила мне, что мы были далеко в открытом океане, и глухой гудящий звук, который достигал моего слуха как бы на огромном расстоянии, убедил меня, что дул бурный ветер. Я не мог объяснить себе причины отсутствия Августа. Мы, конечно, достаточно далеко ушли вперед в нашем плавании, чтобы позволить мне подняться наверх. С ним могло что-нибудь случиться, но я не мог придумать ни одного обстоятельства, которое объяснило бы, почему он так долго держит меня узником, исключая одно: он внезапно умер или упал за борт, а на этой мысли я не мог остановиться без содрогания. Возможно, мы были задержаны переменными противными ветрами и находились еще в недалеком расстоянии от Нантукета. Однако я должен был оставить подобное предположение: будь это так, бриг часто поворачивал бы на другой галс; а видя его непрерывное накренивание к левой стороне, я твердо заключил, что он плывет прямым путем, подгоняемый стойким и свежим ветром, дувшим на него с правой кормовой части. С другой стороны, допуская, что мы были еще недалеко от острова, почему бы Августу не навестить меня и не сообщить об этом обстоятельстве? Размышляя таким образом о трудностях моего одинокого и безрадостного положения, я решил ждать теперь еще в продолжение других двадцати четырех часов, и если не получу помощи, то пройти к трапу и попытаться затеять переговоры с моим другом или хотя бы подышать свежим воздухом через отверстие и снабдить себя водой в его каюте. Меж тем как я был занят этими мыслями, несмотря на все усилия, я погрузился в состояние глубокого сна, или скорее оцепенения. Сны мои были самого чудовищного характера. Всевозможного рода бедствия и ужасы напали на меня. Среди других злосчастий я был до смерти удушаем между огромных подушек демонами – привидениями самого свирепого и страшного вида. Огромные змеи держали меня в своих тисках и внимательно смотрели мне в лицо своими страшными блестящими глазами. Потом пустыни, безграничные, безнадежные, потерянные и грозно внушительные, расстилались передо мной. Необъятно высокие стволы Деревьев, серых и безлиственных, вздымались в бесконечном ряду так далеко, как только мог достичь глаз. Их корни были скрыты в далеко расстилавшихся болотах, мрачные воды которых лежали напряженно черные, тихие и страшные. И странные деревья, казалось, наделены были человеческой жизненностью и, размахивая своими скелетами-руками, взывали к безгласным водам о милосердии в пронзительно резких звуках острой агонии и отчаяния. Картина изменилась, и я стоял нагой и одинокий среди раскаленных равнин Сахары. У моих ног лежал, припав к ним, свирепый лев тропиков. Вдруг его безумно дикие глаза открылись и взгляд упал на меня. Судорожным скачком он вспрыгнул, встал на ноги и обнажил свои ужасающие зубы. Еще миг, и из его красной глотки вырвался рев, подобный грому с небосвода, и я упал стремительно на землю. Задыхаясь в судороге ужаса, я наконец почувствовал себя отчасти пробудившимся. Мой сон, значит, не вовсе был сном. Теперь, по крайней мере, я овладел моими чувствами. Лапы громадного настоящего чудовища сильно давили мне грудь, его горячее дыхание было в моих ушах, и его белые и страшные клыки блестели надо мной сквозь темноту.