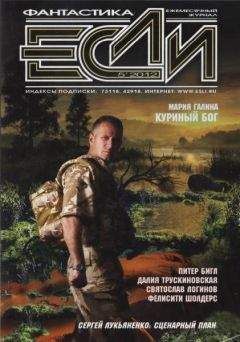— Как вы узнали?
— Я ничего не знал, — искренне ответил ей Олферт Даппер. — Я лишь догадывался.
— Что жена преподобного Джайлса Кертли может оказаться до сих пор девственной? Смелая догадка, мой мудрый доктор! — Она наклонилась ближе, прижавшись к нему грудью, совсем не настолько детской, как ему представлялось. — И конечно же, такая догадка заслуживает некоторого вознаграждения?
Ее подсолнуховые глаза сияли мягким, теплым светом. Как ни странно, доктор был первым, кто отстранился в этот момент, практически оттолкнув от себя эту женщину, чья тайна преследовала его во снах всю зиму.
— Добрая госпожа, — к своему немалому изумлению, услышал он собственный голос, — если… если мы это сделаем… у тебя больше не будет шанса когда-либо вновь увидеть единорога… держать голову единорога на своих коленях. Я не такой негодяй, чтобы стремиться лишить тебя подобного блаженства.
Собственная напыщенность привела его в ужас — и то, что это говорилось с самыми лучшими намерениями, только ухудшало дело. «Некоторые люди попросту не рождены для щедрых жестов», — подумал он.
Однако Реморс Кертли только рассмеялась, протянула руки и крепко сжала его плечи, словно желая придержать голову, чтобы поглядеть ему в глаза.
— Раз в жизни увидеть единорога — это уже чудо превыше всего, что может заслужить женщина, независимо от того, девственна она или нет. Несколько же раз… нет-нет, доктор, это для какой-нибудь другой жизни, не моей! — И она поцеловала его с силой, которая могла бы свалить на землю, если бы миссис Кертли не продолжала его держать. По-прежнему не отрывая взгляда от его глаз, она проговорила с той же тяжеловесной серьезностью, с какой говорил до этого он: — Этот единорог освободил меня, можете вы это понять? Освободил от мира, который, как меня всегда учили, является единственным миром для христианской души. Пока я сидела и держала его голову у себя на коленях, он вошел в меня… как еще могу я это описать, милый доктор?., он вошел в меня и показал мне чудеса превыше убогого, вечно недовольного Ноу-Поупери. И за это я буду вечно вам благодарна, больше, чем кто угодно другой. Вот так-то, мой дорогой негодяй!
И она снова поцеловала его, а затем отступила немного назад и начала медленно развязывать корсаж своего тусклого темного платья, ни на миг не сводя с него взгляда.
— Теперь ваше дело — довершить мое освобождение, — прибавила она. — Помогите-ка мне вот здесь…
И он помог, хотя его обычно ловкие пальцы вдруг стали непослушными, словно у неоперившегося юнца. И они двое воистину прилепились друг к другу и стали «едина плоть», как это предложено и одобрено Библией.
Позже, когда они лежали в полудреме в пятнистой лиственной тени, подложив под головы его сумку для сбора трав вместо подушки, он сказал:
— Меня все же печалит, что вы так легко отказались от возможности когда-либо снова призвать к себе единорога. Воистину, я привел вас сюда совсем не для этого, но лишь потому, что сам хотел увидеть это существо еще раз. Я не могу избавиться от ощущения вины.
— Я ни от чего не отказывалась, — строго ответила она, приподнявшись на локте, с потяжелевшим взглядом, — а даже если и отказывалась, то уж наверное не ради вас, тщеславный вы человек, а ради себя самой. То, чего я лишилась, я отдала по доброй воле. Даже Бог Ноу-Поупери понял бы, в чем разница! Единорог понял.
После этого без каких-либо новых объяснений Реморс Кертли разразилась рыданиями.
Думая — наверное, в сотый раз в своей жизни — о том, что он ничего не понимает в женщинах, доктор Даппер подставил ее слезам свою грудь и горло, и где-то посередине всего этого они внезапно снова стали одной плотью, и она принялась над чем-то хихикать как девчонка, но не сказала над чем. Когда он ее спросил, она только засмеялась еще громче, и ее волосы превратились в плетку, хлещущую его по лицу, а потом его внимание оказалось поглощено другими вещами — такими, например, как маленькая розовая родинка между лопаток, крошечное клеймо, которого, как подозревал доктор, никогда не видел преподобный Кертли.
* * *
Обратно они шли бок о бок так же, как и выходили; однако когда доктор Даппер попытался по примеру поселковых ухажеров взять ее за руку, миссис Кертли покачала головой и отошла в сторону. Ее волосы были вновь упрятаны под голландский чепец, корсаж зашнурован чуть не до удушения, на длинном коричневом платье никаких следов предательских травяных пятен; она вновь вошла в роль смиренной пуританской жены и хозяйки, играя ее с той страстной внимательностью к мельчайшим деталям, что отличает хороших актрис — а она потратила всю жизнь на то, чтобы стать такой актрисой. Даже когда она искоса поглядывала на него и улыбалась самым краешком губ, это была не улыбка Реморс Кертли. Ту улыбку доктор хорошо знал.
Они расстались на околице поселка: он отправился к своей ступке, пестику и импровизированным весам, она — ухаживать за мужем, готовить ему плотный ужин после трудного дня. Когда, дождавшись следующей желудочно-кишечной жалобы преподобного, доктор Даппер поспешил к нему с заранее приготовленным отваром, то не встретил ни малейшего намека на то, что между кем-то и кем-то могло произойти что-либо недостойное; миссис Кертли лишь кивала, внимательно выслушивая инструкции их семейного врача, и делала пометки, не поднимая головы. Доктор оставался у них дольше, чем было необходимо, пытаясь украдкой встретиться с ней взглядом, но не возымел успеха.
Новости о разнообразных родных землях колонистов добирались до поселка в лучшем случае нерегулярно (а на протяжении зимних месяцев их и вовсе не было) и доставлялись как получится — чаще всего их приносили бродячие торговцы, лудильщики и обходящие округу проповедники, случайно забредавшие в Ноу-Поупери. Олферт Даппер с момента своего прибытия вообще не получал никаких вестей из Нидерландов и уже почти смирился не только с вероятностью провести еще по меньшей мере год в этом безотрадно диком Новом Свете, но также и с еще большим ужасом осознавая, что он понемногу привыкает к своей жизни здесь. Ему нравились и вызывали уважение знакомые индейцы-абенаки, ему почти нравились двое или трое человек из поселян; у него даже начал появляться некоторый вкус к бобам с кукурузой…
О нет, что бы ни ждало его дома в Утрехте, но он должен выбраться отсюда!
Миссис Реморс Кертли продолжала заниматься своими делами, как и подобает исполнительной домохозяйке — жительнице Ноу-Поупери: готовила еду, возилась в огороде, читала молитвы и поддерживала порядок в доме, ни разу не позволив себе остаться наедине с доктором Даппером более чем на несколько минут, необходимых, чтобы он мог вручить ей новые снадобья для вечно свирепствующего желудка ее мужа и дать указания по их использованию. Ее глаза всегда были опущены долу, волосы полностью убраны под чепец, а скромное поведение являлось неизменным образцом для всех пуританских женщин. Размышляя о случившемся, доктор Даппер никак не мог определить, действительно ли он любит ее — принимая во внимание, что любовь в общепринятом выражении была эмоцией настолько же от него далекой, как турецкий язык или тонкости инфралапсарианства. В то же время он не сумел бы назвать это обычной греховной похотью: скорее, наверное, можно сказать, что, будучи однажды допущен к сердечным тайнам жены священника, он попросту желал оказаться их свидетелем еще раз (даже больше, чем до того стремился снова увидеть единорога). Выше уже упоминалось, что в характере Олферта Даппера имелось немало романтического.