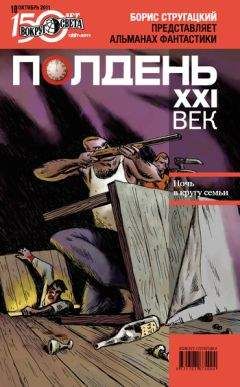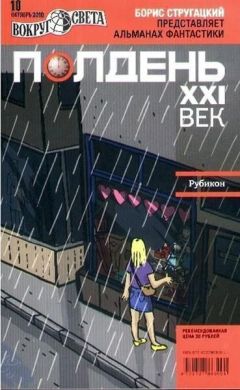Кружки жестяные, удобные – не разобьешь, только растоптать можно.
– Сами знаете, товарищ уполномоченный, какие у нас бабы, – стрельнул Пугаев веселым глазом. – Поначалу на этапе девчонку и в карты проигрывали, и обидеть норовили, а она как неразменный пятак. Уведут ее куда, смотришь, она опять сидит на своем месте. Однажды попала к одной лютой меньшевичке по кличке Павла. Та через девчонку с вохрой хотела договориться. Вроде все шло как надо, и старший вохровец заперся с девчонкой в пустом купе, а потом, видят, сам дверь открыл, синюю выпустил, а сам стоит и дрожит. Говорят, до сих пор ходит нараскоряку.
Словами этими как бы предупредил: вы, товарищ уполномоченный, с Кафой тоже поосторожнее. Вам не пойдет нараскоряку ходить.
Подумав, добавил:
– Девчонка у нас в теплицах следит за рассадой.
– Да какая рассада на командировке?
– А девчонка натрясла из одежды.
Видя, что лейтенант не понимает, пояснил:
– Видно, семена у нее с каких-то пор завалялись в карманах. Она же из Ленинграда, в домике за городом росла. Мало ли, любила шляться по полям. Я сам те семена видел. Мелкие, круглые, как мак, только цвета на них никакого, сразу лист вымахивает синий. Мы с Зазебаевым землю возим, назём собираем на командировках, где лошади еще не сдохли. Начальство травкой тоже не брезгует.
Быстро спросил:
– Сами откуда?
– Из Ленинграда.
– Я так и подумал.
– Это почему же так подумал?
– Ну так. Походка у вас особенная.
– А как тот агроном называл синюю травку?
– Виноват, не интересовался. Это вы у Зазебаева спросите, он тулайковец.
Неутомимая память лейтенанта Рахимова, как всегда, вывернула пласт слов. После того, как упрекнул его з/к Полгар в забывчивости, следил за своей памятью. Прокручивал разное. «Рабы немы». Хороший урок! Был, был такой умный академик Тулайков – честили его во всех советских газетах. С царских времен бывалый агроном, в старые законы верил, запачкался в борьбе с травопольной системой красного профессора Вильямса.
– У нас тут все находят место, – весело гудел татарин. – И ученые в очках, и подслеповатые учителя, и народ простой, и такие, что когда-то партийными делами ворочали. Возьмем хоть Зазебаева.
– А он что?
– Товарища Ленина похоронил.
Лейтенант вздрогнул. Но татарин не выдумывал.
У этого Зазебаева, рассказал, сердце всегда горело пламенем. Настоящее горячее революционное сердце. Под Варшавой дважды ранен, вернулся с войны в родную Зазебаевку – перед этим в городе немного учился. Всей душой болел за коммунизм, собирал людей по отдельному человеку, первый колхоз в своем краю основал, люди у него по струнке ходили, как в армии. Деревню зимой снегом заносило по крыши, мороз лютый, а он всех гонял в избу-читальню. Там и книг-то всего штук пять, «Политграмота», ну, все такое, а все равно – книги, скамьи, стол, покрытый для красоты газетами. «Мы не рабы!» Одна тысяча двадцать четвертый год, январь, морозы лютые, непреходящие. (Память лейтенанта услужливо подсказывала: «Рабы немы!») А у Зазебаева мысли. «Чего нас в читальню-та по морозу?» «Надышите!» У Зазебаева лицо худое, как у сумасшедшего, а рядом – сотрудник ОГПУ. Тоже с революционным сердцем, горячий. Прислан проследить, как вровень с мировым пролетариатом горюет дружная деревня Зазебаевка по поводу смерти мирового вождя. Вот и Ленина нет. Казалось, всегда будет. А вот нет Ленина.
«Как с богом-то теперь?»
«Да никак. Совсем упразднили».
«А коли рассердится? Коли спустится с небес да отхерачит за самоуправство?»
Услышав такое, сотрудник ОГПУ от души рассердился: «Вы что, блядь, мужики, мать вашу туды, такое несете? Горе у нас!»
«Ну, горе, сами видим. А как быть?»
«А так, что вождь теперь всегда должен быть рядом!»
Зазебаевцы не сразу поняли. Как это так, всегда рядом? Привезут в Зазебаевку, что ли? Похоронят здесь? Так Москва же не отдаст! Каждому хочется иметь отдельную могилку вождя для обязательных посещений. Как это можно единственное тело разделить на всех?
Хорошо, сотрудник ОГПУ объяснил:
«Революционные сердца объяты… Исполинское горе черными тучами… Самый работящий человек может опустить руки… Вот вы тут все, революционные зазебаевцы, родной колхоз, – закричал, ударив по столу кулаком, – в снегах, в отдалении от центра, у вас в сердце боль еще пронзительнее, чем в городе. Как можно без вождя? Ложишься – боль. Утром привстал с топчана – опять томит…»
И подсказал наконец: «А вот если похоронить Ильича у вас же тут на юру, да в каком красивом месте…»
– Есть такое место! – выкрикнули.
2.Лейтенант покачал головой.
С полрассказа догадался о судьбе гражданина Зазебаева.
Спросил татарина:
– Сам-то по какой?
Сразу стала понятна смелость татарина:
– А я ни по какой. На меня еще нет статьи. Я на Колыме по велению сердца. Как сказали мне, что внесен в список на выселение из десяти главных городов республики, так и завербовался. Ищу, где правильней руки приложить. – Весело одобрил свое поведение: – В ничтожество не впал, а мог сгореть от спирта. Тут многие ничем, кроме спирта, не пахнут. Да и как иначе? На голой правде людей не воспитаешь.
Все также весело предложил:
– Я для вас свою каморку освобожу, товарищ уполномоченный. Ночью в одном помещении с з/к вам нельзя находиться. Вы на службе, а Зазебаев все же – тулайковец. Он Ленина похоронил. Его после того случая на каждый праздник в отсидку брали, пока не загремел окончательно. – Пояснил: – Обычно я дверь держу открытой, чтобы в каморку мою тепло шло, а вы на ночь крючок набрасывайте.
Вечером, когда вышли посмотреть на небо, за углом заметенного снегами домика Пугаев, отворачиваясь от ледяного ветерка и сильно возвышаясь над невысоким лейтенантом, вкрадчиво спросил: «В Магадан-то когда?»
Отливая выпитое, Рахимов буркнул: «В скором времени».
Пугаев на это только сплюнул весело: «Не зарекайтесь, товарищ уполномоченный. Как бы не прихватило. Слышите, как всё замерло?»
Действительно, поземку несло как-то остро, с особенным присвистом. Начинало потихоньку пуржить, выбрасывало снежные заряды. Но звездное небо всё ещё было открыто и кровавая звезда висела над горизонтом.
«Я здесь не засижусь. По трассе за мной приедут».
«По трассе – это хорошо. Я сам выведу вас на трассу».
Что-то Пугаев еще добавил про плетеные снегоступы. Дескать, этот тулайковец Зазебаев, он не только хоронить мастер. Сверху вниз сунул в освободившуюся руку лейтенанта листок бумаги, свернутый треугольником. «Просьба большая, товарищ уполномоченный. В Магадане мое письмецо опустите в почтовый ящик. Это жене моей Маше, доброй женщине, она ждет не дождется на материке. Я треугольничек не стал заклеивать. Понимаю, вы – человек казенный, вам лучше бы посмотреть. А то мало ли…» И весело перевел разговор, радуясь, что в маленькой просьбе не отказано: «Пока мы тут стояли, Зазебаев, видать, вернулся. Такой ветер, что рядом ничего не слышно».