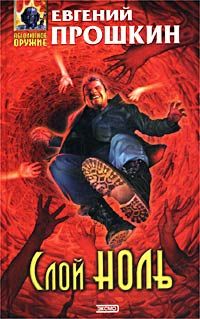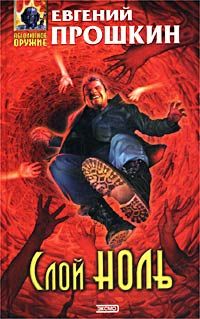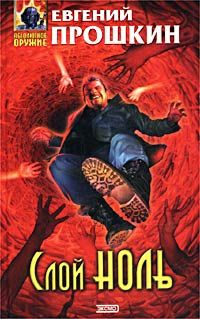Глухой ропот за стенкой все не стихал, и Мухин скорее догадался, чем вспомнил, что он находится в больнице. И что человек говорит сам с собой. И что, кроме них, на этаже никого нет.
Где-то звякнули пустые бутылки, и Виктор с облегчением вздохнул: все-таки кто-то есть. Бутылки загремели громче, одна из них упала и с сухим шорохом покатилась по полу. Пол мраморный, определил Мухин. Значит, больница приличная. А может, даже шикарная. Отдельные палаты, никто не тревожит...
Сейчас Виктору хотелось как раз другого: чтобы к нему вошли, поздоровались и своими лицами, своими голосами напомнили ему... Напомнили хоть что-нибудь.
Бутылка ударилась о стену и поехала обратно. Мухин отметил, что он прекрасно ориентируется по звуку, — это ощущение было новым и непривычным. Словно он слепой...
Виктор испуганно метнулся взглядом от стены к потолку и снова к стене. В комнате стояли еще три кровати — все свободные, с голыми матрасами. Проходы были широкие, в них запросто уместилось бы по две больничные тумбочки, но тумбочек в палате не оказалось. Не было ни стола, ни стульев, ни штативов от капельниц. Кровати, стены, окно. Окно Мухину понравилось.
Стекла были замазаны белой краской — оставалась лишь запыленная фрамуга, но для первого впечатления Виктору хватило и этого. В ясном небе медленно проплывало единственное облачко, доброе и наивное, как в детской книжке. Возможно, оно появилось перед больницей только для того, чтоб развлечь Мухина. Подумав об этом, он улыбнулся.
Бутылка вкатилась в комнату и остановилась посередине. За ней, приседая на передние лапы, кралась маленькая полосатая кошка.
— Кс-кс... — позвал Мухин.
Кошка выпрямилась и посмотрела на него. Зеленые глаза, круглые от природы, округлились еще сильней — кажется, кошка чему-то удивилась. Виктора это позабавило.
— Чего пялишься, дуреха? Иди, поглажу.
Говорить было трудно. Он заметил, что язык вырос До невероятных размеров, так что еле умещался во рту. И еще у него не хватало зубов. Сосчитать дырки распухшим языком не представлялось возможным, а в памяти такая мелочь, естественно, не осела.
— Иди, глупая! Иди, поглажу... Он протянул руку, но не удержал ее на весу и трех секунд. Ладонь была слишком тяжелой.
— Да ты, парень, приболел серьезно, — сказал Виктор куда-то в потолок. — Лечись, парень, хворая оболочка мне не нужна.
Договорив, он почувствовал, что задыхается. Фразы были слишком длинными. Для него — слишком...
Виктор собрался положить руку на одеяло и только теперь испугался по-настоящему. Рука слушалась, но поднять ее у Мухина не было сил. Он хотел сказать себе что-нибудь еще, разумеется, ободряющее, юморное, но решил не разбрасываться. От плеча по всему телу расходилась усталость — дикая и запредельная, связанная с такими же дикими воспоминаниями.
Армия, кросс в химзащите... Почему кросс? Почему вхимзащите?..
Виктор уцепился за этот крючочек в надежде выйти на что-нибудь конкретное.
Нет. Воспоминание пришло, но оно было не отсюда, не из этого слоя. Простая ассоциация: изнеможение — бег в противогазе, с автоматом и хлопающим подсумком. Ничего более изматывающего Мухин не знал. До сего момента. Теперь он знал и другое: десяток слов, произнесенных вслух, да секундное напряжение нескольких мышц — и он уже выдохся так, что сердце еле шевелится. И он уже почти что труп.
Раскачав руку наподобие маятника, Виктор все же закинул ее на живот и с большим трудом подтяи ближе, к самому лицу. Так, чтоб было видно.
В принципе он уже готовился. Но не к такому...
Кожа на руках была темной, а местами совсем черной, точно обугленной. Овальные загрубевшие пятна отслаивались, и из-под хрупкой корки вытекало что-то мутное и неоднородное, похожее на куриный помет.
Сквозь струпья проросли редкие бесцветные волосы, толстые, как проволока, и еще...
И еще — от рук пахло. Пальцы более-менее слушались, но были уже бесполезны: Виктор не удержал бы в них и карандаша. Они практически сгнили. И то, что они продолжали, пусть и вяло, отзываться на его приказы, казалось еще страшнее. Лучше бы они не двигались вовсе, но смотреть, как кожа над суставами лопается, обнажая темно-серое мясо, было невозможно.
Облако в окне скрылось, за ним появилось второе, такое же безалаберное.
«Здесь все в порядке, — подумал он умиротворенно. — Здесь, в этом слое, все нормально. Иначе и быть не может. С таким небом и не радоваться жизни — это хамство».
Мухин умирал, но умирал спокойно, как, впрочем, и положено старику с чистой совестью. Он не знал, сколько ему лет, да это и не имело значения. Что бы там ни было — возраст или болезнь, смерть уже дышала ему в затылок. И он ее не боялся. Просто Виктору было немного жаль, что он отсюда уходит, покидает слой, где все скоро окажутся. Он завидовал людям — обыкновенным оболочкам, которые перекинутся сюда, в мир с голубым небом, и ничегошеньки при этом не заметят.
Решив, что экономить последние силы уже ни к чему, Виктор свесил ноги. Линолеум, несмотря на лето, был ледяным, а тапочек под кроватью не нашлось. Придерживаясь за металлическую спинку, Мухин встал и, поймав равновесие, замер.
Он не хотел смотреть вниз. Он знал, что ничего хорошего не увидит. Но все же не утерпел.
Кожа на лодыжках, как и на руках, была пятнистой, в черных язвах, с отвратительно длинными волосками. Его тело вряд ли весило много, но и такого давления хватило, чтобы из-под ногтей выдавились крупные зеленоватые капли.
Немощно двигаясь к окну, Виктор боялся только одного — что он рассыплется по дороге, не успев выглянуть на улицу. Выглянуть и убедиться. Для него это было настолько важно, что в какой-то момент он да:же перестал ощущать усталость.
Рамы были не просто закрыты на шпингалеты, они еще и проклеены бумагой. Мухин попробовал прорвать ее ногтем, но бумага оказалась намного крепче обычной. Он обернулся к кровати и увидел за изголовьем маленький квадратный столик с какими-то блестящими инструментами. Нет, второго похода не одолеть...
Виктор бессильно провел по стеклу рукой. Стекло было гладким — красили с другой стороны. Найдя на уровне глаз маленькую процарапанную лунку, он чуть не рухнул от счастья и тут же к ней приник. В отверстие Мухин не увидел ничего, кроме второго стекла, также закрашенного. Рамы были двойными.
Он положил ладони на подоконник и уперся лбом в окно. Усталость, на время отступившая, вдруг догнала его и без всякого предупреждения навалилась — сверху, снизу, изнутри... она была всюду.
Виктору смертельно захотелось спать, но, посмотрев на постель, он понял, что теперь-то уж не дойдет точно. Ни вернуться к койке, ни увидеть, что там, за окном... Никогда прежде он не чувствовал себя таким никчемным.