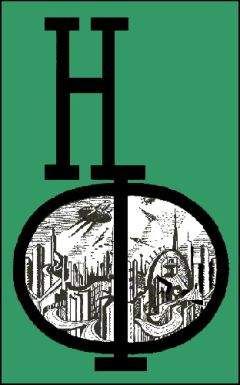Можно без большого преувеличения сказать, что воспитывая из Уэллса ученого, Хаксли воспитывал из него писателя и просветителя. И то, что предметом занятий Уэллса оказалась именно биология, эта «новая наука» второй половины прошлого века, сыграло здесь огромную роль. Десятки аспектов идейной борьбы на протяжении нескольких десятилетий были отмечены влиянием дарвиновской теории эволюции, порой решающим. Теория эволюции казалась ключом современного знания, а биология, носительница этой теории — царицей наук, отрешившихся от своей былой замкнутости. «Широкое просветительское значение биологических и геологических исследований наполняло мое поколение надеждой и верой», — писал много лет спустя Герберт Уэллс. Биология была для него еще более гуманитарным знанием, чем для его учителя. «Биология, бесспорно, гораздо больше принадлежит по материалу и методу к тому, что мы называем историей и общественными науками, чем к наукам физического ряда, с которыми ее обычно ассоциируют», — говорил он. Однако для Уэллса, как и для Хаксли, биология вносила свой вклад в культуру, нисколько не отказываясь от своих научных методов, а напротив — постольку, поскольку она ими располагала.
Вспоминая о Южном Кензингтоне, Уэллс всегда подчеркивал, что именно тогда, научившись мыслить как ученый, он нашел себя и как личность. «Изучение зоологии в то время, — писал он» «Опыте автобиографии», — складывалось из системы тонких, строгих и поразительно значительных опытов. Это были поиски и осмысление основополагающих фактов. Год, который я провел в ученичестве у Хаксли, дал для моего образования больше, чем, любой другой год моей жизни. Он выработал во мне стремление к последовательности и к поискам взаимных связей между вещами, а также неприятие тех случайных предположений и необоснованных утверждений, которые и составляют главный признак мышления человека необразованного, в отличие от образованного». И вместе с тем, по словам Уэллса, еще не раскрытый механизм эволюции оставлял свободу для самых смелых и неожиданных гипотез. Сочетание интереса к фактам, стремление охватить их в наибольшем количестве, быть скрупулезно им верным, с очень широким их осмыслением, со смелостью предположений — вот что приобрел будущий писатель, слушая курс профессора Хаксли. Тип мышления, которому помогло выработаться учение у Хаксли в колледже, чтение трудов Дарвина и Хаксли (в том числе и тех, что были написаны после ухода Уэллса из Южного Кензингтона) определили впоследствии многие стороны взглядов и эстетики Уэллса. Именно в это время он научился мыслить вне предписанных схем. Тогда же он почувствовал потребность самостоятельно изыскивать факты и приводить их в систему, далеко простиравшуюся за пределы отдельной науки. Он «нашел подход» к миру, и этот общий подход будет; чувствоваться потом всегда — к какой бы области знания ну обратился Уэллс. Это же единство подхода определит собой совпадение или преемственность взглядов Уэллса по отношению ко взглядам Хаксли. Будут и разногласия, но они определятся не столько прихотью индивидуальной мысли Уэллса, сколько новыми фактами и решениями, принесенными в мир реальным развитием. Хаксли был ученым, дарвиновской школы, как Уэллс — хакслиевской. Но и Хаксли м Уэллс были еще Хаксли и Уэллсом — просветителями каждый своего поколения.
Расходились они, в частности, в вопросе об отношении науки и той отрасли литературы, которая именуется фантастикой.
У Хаксли нет прямых заявлений о фантастической литературе, но, судя по всему контексту его высказываний, она не могла быть предметом его особой привязанности. Фантастика неизбежно связана с неполным знанием (иначе не остается места для фантазии), а Хаксли — горячий сторонник литературы, основанной на прочном и все расширяющемся знании. Именно с проблемой знания связана у него и проблема верности природе. «Чем выше культура и осведомленность тех, к кому обращается искусство, тем определеннее и точнее должно быть то, что мы называем «верность природе». И если в вопросе об отношении литературы и науки Хаксли сумел подняться над ограниченным раннепросветительским противопоставлением чувства здравому смыслу (во избежание недоразумений следует иметь в виду, что при нечеткости тогдашней терминологии здравый смысл часто именовался разумом), то в суждениях о литературе как таковой он нигде не показал, что достиг такой же меры диалектичности.
Разумеется, Хаксли — первооткрыватель и просветитель, не мог не строить порой мыслительных схем, которые по праву следует назвать научно-фантастическими. Но он же сам решительно их отвергал и предостерегал против них своих слушателей. Подобные построения, по его словам, не обладали одним из важнейших атрибутов научности — доказательностью. Поэтому внутренний смысл фантастических построений Хаксли состоит в том, чтобы отвратить своих слушателей от фантастики. Бездоказательная экстраполяция научных предположений это, по его мнению, вернейший путь от науки к поповщине.
Прекрасный пример этого — рассуждения Хаксли о возможности и характере жизни на других планетах.
Утверждая, что ввиду бесконечности Вселенной среди обитателей других планет не могут не оказаться существа, многократно нес превосходящие во всех отношениях, Хаксли продолжает: «Не выходя за рамки известных нам аналогий, легко населить космос существами все более, по возрастающей шкале, совершенными, пока мы не достигнем чего-то практически неотличимого от всемогущества, всеприсутствия и всеведенья». При этом, «если бы признание того, что некий предмет может существовать, было равнозначно доказательству того, что он действительно существует, подобная аналогия могла бы оправдать построение натуралистической теологии и демонологии, не менее удивительной, чем ныне существующая сверхъестественная, а также, равным образом, помогла бы населить Марс или Юпитер живыми формами, которым земная биология не может предложить никаких соответствий» Однако, завершает свои рассуждения Хаксли, всякий разумный человек примет по отношению к этой «натуралистической теологии» вердикт «не доказано» и не станет за отсутствием фактов, краткостью человеческой жизни и достаточным количеством серьезных дел ею заниматься.
Это рассуждение Хаксли замечательно, прежде всего тем, что он сумел предсказать многие линии, по которым действительно развивалась последующая фантастика. Не говоря уже о том, что Хаксли, обратив внимание на многообразие форм жизни на других планетах, по-своему подготовил «Войну миров» и ряд других романов подобного рода, он весьма точно предсказал направление мысли фантастов, живших после него. Именно в последние несколько десятилетий фантасты особенно внимательно перебирают и исследуют возможности, трудности и опасности, которые встанут перед человеком при встрече с чужими мирами, где могут обитать примитивные существа, только вступающие на путь цивилизации, или существа, во много раз превосходящие нас силой ума. Порой эти нарисованные фантастами существа настолько выше человека, что речь действительно идет о чем-то подобном «всемогуществу, всеприсутствию и всеведенью». Этим существам человек кажется созданьем столь примитивным, что он может очутиться в зоопарке, среди других неразумных тварей, как это, например, происходит в рассказе современного американского фантаста Роберта Сильверберга «В поисках образцов». Предугадал Хаксли и появление религиозной фантастики. Она очень невелика по объему, но все же существует. Признанным ее образцом считается созданная в годы второй мировой войны трилогия профессора литературы Средних Веков и Возрождения Оксфордского университета Клайва Степлса Льюиса «С молчаливой планеты», «Переландра» и «Уродливая сила».