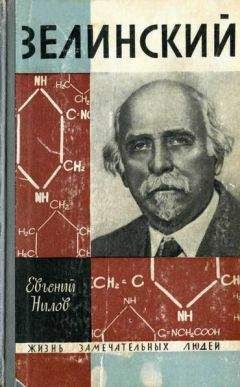То, что я рассказываю здесь, не рецепт. Это внешние приемы, которые помогают мне. Вам они не помогут, потому что у вас нет некоторого секрета, того, о котором я вынужден умолчать.
Итак, я — артист Карачаров. Это мои блестящие брови, мои кудри, прилипшие к потному лбу, мой нос с горбинкой, мои безупречные зубы, моя ироническая улыбка.
Я — Карачаров, а не Кудеяров. Я должен вжиться в этот образ.
Вообще-то я видел его в жизни, как-то встречался на дне рождения у общих знакомых. От хозяев дома знаю, что в быту Карачаров совсем не такой, как на экране. Да, он кумир истеричных девиц, но девицы — не суть его жизни. Карачаров — работяга. Он встает в семь утра, плавает, ездит верхом, работает на кольцах и на брусьях. Он знает свои роли нередко глубже, чем авторы, подсказывает реплики сценаристам и трактовку режиссерам. В кино он пошел со сцены, но, считая работу в театре основной, не оставил прежней труппы. В прошлом сезоне он снимался в Ленинграде и три раза в неделю ездил туда на съемки. Шесть ночей в поезде еженедельно — это весомая нагрузка. Его мечта образы Шекспира: Гамлет, Отелло, король Лир даже. Но ему не дают этих ролей — внешние данные не те. Карачаров редкий, если не единственный человек, который ждет с нетерпением, чтобы годы провели борозды на его лбу.
Это я жду с нетерпением, чтобы годы провели борозды на моем лбу. Это я хочу сыграть кароля Лира, а мне твердят про внешние данные. Я вынужден изображать пошлого красавца, хотя по натуре я труженик. Это я топчусь на игровой площадке, на пятачке, прожаренном «юпитерами». Это мне кричат: «Ваша реплика, Миша!» — «Любви все возрасты покорны». — «Не так, Миша, ироничнее». «Еще раз, Миша, с другой съемочной точки», «Нет, Миша, вы заслонили Танечку, еще разок…» Журчит кран, оператор чуть не вываливается с аппаратом вместе. Вживаюсь в пошлость: «Любви все возрасты…» — «Мишенька, еще раз, так получается в профиль». Не надо раздражаться, не раздражение нужно, а самоуверенная пошлость…
Так я вживался в образ артиста три часа — на сеансе 18.30 и сразу же на следующем сеансе, 20.15. Больше трех часов подряд выдержать трудно. Вживание — занятие утомительное. Три часа надо воображать себя не собой и не соскользнуть на прежнее «Я». Конечно, соскальзывание — не катастрофа. Это не сказочная белая обезьяна, о которой нельзя думать ни разу, чтобы не загубить все колдовство. Мое колдовство не губится от посторонних мыслей, оно только тормозится. Но если все время вспоминать, что ты Кудеяров, не получится ничего.
Мне очень помогло бы, если бы я достал какие-нибудь вещи артиста: его письма или, лучше, авторучку, носовой платок, белье, одежду, еще лучше кусочек кожи или ткани (но не каплю крови, кровь не годится). Хороши ботинки, подходят стельки, на худой конец годится даже земля, по которой он ступал босыми ногами (невольно вспоминается обычный прием колдовства — след вынимать из-под ноги). Вещественное подкрепление очень ускорило бы метаморфоз, было бы почти необходимо, если бы я хотел приобрести характер артиста, строй его мыслей, его конституцию. Но в данном случае речь шла только о внешности, о форме лица. Тут можно обойтись (я могу обойтись) одним воображением.
Вообще-то превращение идет довольно быстро. Темп изменений примерно такой, как у набирающего вес после болезни, — полкилограмма-килограмм в сутки. Вес головы примерно три килограмма, в том числе полтора килограмма мозга. Мозг я не собирался менять: мне надо было переделать только ткани лица. Я рассчитывал сделать это за шесть вечеров в кино.
Даже в самый первый вечер, внимательно разглядывая себя в зеркале, я заметил, что нос у меня чуть-чуть удлинился и припух посередке, там, где требовалась горбинка. Приободрившись, я наклеил на зеркало портрет Карачарова (афишу сорвал, каюсь: где же еще достанешь?). Портрет, конечно, условность, но стимул для воображения. И, засыпая, еще повоображал себя артистом. Если настроишься так, что снится новое «Я», значит, процесс идет и во сне.
На второй день я предупредил соседей по лестнице, что сам я уеду в командировку, вместо меня будет жить мой приятель, описал его. Так и сказал: похож на знаменитого Карачарова. Дня три после этого, в самый разгар перемен, ходил с завязанной физиономией, потом ушел с чемоданчиком на виду у всех… и вернулся в другом костюме, в шляпе, позвонил соседке, спросил, оставлены ли мне ключи от квартиры. Меня не узнали, точнее, узнали артиста, спросили, не близнецы ли мы со знаменитостью. Смешно было разговаривать с соседкой, притворяясь незнакомым. Мы поговорили обо мне; я узнал о себе много лестного: непьющий, солидный, вежливый, скоро буду кандидатом наук, но пропадаю в бобылях, хожу с оторванными пуговицами, неухоженный, жениться надо бы. Затем меня (нового меня) познакомили с девушкой со второго этажа, забежавшей за утюгом. С ходу она начала со мной кокетничать, в точности так, как кокетничала с прежним «Я».
Забота была: не перепутать, с кем я познакомился в новой ипостаси, с кем был знаком раньше. Я решил на всякий случай кивать всем встречным. Юрием Андреевичем меня не назвал никто.
Прошелся по улице. Прохожие оглядывались. Пожилые хмурили лоб, припоминали знакомое лицо, молодые радостно улыбались, мальчишки обгоняли, чтобы разглядеть получше. Покупая газету, услышал за спиной:
— Гляди, Карачаров. Настоящий! Газету покупает. Куртка бежевая, на «молнии». Не иначе, с фестиваля привез, из Венеции.
«Пять с плюсом», — сказал я себе и направился в телефонную будку.
— Эрочка? Можно я пришлю вам с работой моего знакомого? Да-да, хороший знакомый, я за него ручаюсь. Да вы и сами знаете его, наверняка узнаете, сразу.
Эра узнала Карачарова. Я не узнал ее.
Я знал и любил величественную, томную грацию с плавными движениями, милостиво разрешавшую любоваться своей красотой благоговейным вздыхателям.
Я увидел суетливую ломаку, которая не знала, как сесть, как повернуться, какие слова сказать, каким смехом смеяться, чтобы понравиться знаменитости.
Эра выбрала пошлейшую роль молитвенно восхищенной дурашки. Сказала, что она семь раз смотрела все фильмы с Карачаровым, что сегодняшний день — самый замечательный в ее жизни, она всем подругам расскажет, какое событие произошло с ней; что для нее артисты — особенные люди, люди высшего класса. Она совершенно не представляет себе, как это можно играть столько ролей, откуда взять столько жестов и выражений лица, что он (я) обязательно должен рассказать и показать ей, как он играет, хотя она едва ли поймет, потому что это особенный талант, редкостное дарование…
И мне стало скучно.
Дело в том, что смена лица не проходит бесследно для психики. Целую неделю я вживался в образ известного артиста… и вжился немного. Внушил себе, что я труженик, что я мечтаю о шекспировской роли и что я одурел от букетов, записочек, визгливых поклонниц, комплиментов, восторгов, неумеренных и необоснованных похвал. Пришел к машинистке по делу, роль перепечатать… а тут еще одна визгливая поклонница.