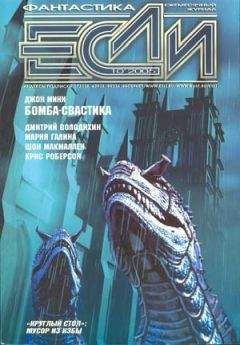Тут я заметил, что она держит стеклянное блюдо, взятое со стола, возле которого находился Вильгельм Первый; эсэсовец тоже заметил это, и шрам на его лице дернулся. В стороне замигал красный огонек, и я подумал, что, взяв посудину, Лаура ненароком включила какое-то потайное сигнальное устройство.
Офицер пролаял вопрос, но не стал ждать, пока шагнувший вперед Вильгельм Первый даст ответ.
Он немедленно сорвал с пояса баллон и ткнул его раструб в прекрасное лицо Лауры…
Нет! Лаура!
Попытавшись ногтями отдернуть мембрану, я, наверное, завопил, но было уже слишком поздно, брызнули мелкие капли спорового тумана, и женщина, которую я любил, превратилась в зомби еще до того, как мои пальцы прикоснулись к мембране.
Я замер внутри шкафа, не в силах осознать происшедшее, не в силах смириться с ним.
Один из солдат открыл было рот, чтобы заговорить, — должно быть, он услышал меня, — однако заметил белозубую улыбку эсэсовца и промолчал. Он обменялся взглядом с напарником, и я прочитал в их глазах решимость оставаться в стороне от этого дела.
Лаура. О, моя Лаура.
Оправдания, объяснения. Я не стал бы возражать, если бы Вильгельмы раскололись и выдали нас с Петром или если бы ушли, оставив нас задыхаться и умирать. Но передо мной стояла Лаура, оболочка женщины, которую я любил: нас разделяли четверть дюйма непроницаемой мембраны и безутешная скорбь.
Когда мембрана наконец растворилась и мне помогли выбраться наружу, я едва осознавал, что вижу обоих Вильгельмов, что руки Петра держат меня железными клещами и что эсэсовец вместе с патрульными уже ушел.
— Лаура… — проговорил я, обращаясь к той, что уже не слышала меня.
Которой уже не придет в голову ни одна человеческая мысль.
Я едва не протянул руку, чтобы коснуться ее щеки, однако побоялся инфекции; и это мгновение трусости я запомню навсегда. Впрочем, крошечные нарывы уже расползались по прежде безупречной, цвета слоновой кости коже: предвестники тех преобразований, которые скоро превратят эту плоть в подобие чудовищ из ямы.
Но неужели тень муки пробежала по этим прекрасным, но мертвым глазам?
Я надеялся на ошибку. Я молил Бога, чтобы она действительно умерла.
О, моя Лаура.
Кашлянув, Вильгельм Первый произнес:
— Мне очень жаль, сэр.
Приглядевшись, я заметил, как он судорожно сглотнул. Меня охватило желание убивать, рожденное Из бури чувств, требовавших отмщения. Я мог уничтожить их, разодрав по косточкам…
— Друг, — Петр достал револьвер. — Скажи, и я пристрелю их обоих.
Выстрел станет самоубийством, однако мне было все равно. Оба Вильгельма замерли передо мной в смятении, не смея вымолвить ни слова.
Наконец я оторвал взгляд от той, которая была для меня всем, и спросил:
— Чего вы хотите? По-настоящему хотите?
— Итак, вы одобряете нашу методику создания бомбы? — спросил Вильгельм Второй. — И считаете ее реализуемой?
— Я…
Это мгновение могло погубить нашу миссию, а с нею весь мир. Исписанная почерком Вильгельма Второго грифельная доска и диаграмма на ней, как две капли воды схожая с той, которую рисовал Дик Фейнман, заставили меня замереть на месте.
— Я работаю, — произнес Вильгельм, — над теорией так называемого квантового эволюционного детерминизма. До завершения ее еще годы и годы, однако кое-какими выводами уже можно воспользоваться…
И я воспользовался ими: познаниями Дика относительно техники будущего, рассматривая формулу энзима, предназначенного для того, чтобы заставить эволюционировать реплицирующееся ядро, зная теперь, что у наци ничего не получится.
Я не выдал своих мыслей. Живая смерть, превратившая Лауру в зомби, лишила меня эмоций, способных обнаружить себя. Эта смерть спасла меня тогда, когда жизнь ничего больше не стоила.
— На мой взгляд, методика великолепна. Уайтхолл с восторгом примет вас.
— Но мне необходимо продолжить работу.
— Вы получите дом в Оксфорде, — пообещал я. — Просторный дом. С вами будут сотрудничать наши лучшие умы.
Ложь. Наша наука базировалась не в Оксфорде: он стал бы в таком случае слишком очевидной мишенью.
— Отлично, — промолвил Вильгельм Второй.
В глазах Вильгельма Первого созрело решение, и он отрывисто кивнул своему тезке:
— Желаю удачи, мой друг.
Развернувшись как по команде, Вильгельм Первый торопливо вышел из изолятора. Шаги его простучали по сосновым ступенькам, потом по полированному паркетному полу, а затем он исчез за боковой дверью под красным флагом.
— Насколько я понимаю, друг мой, — обратился я к Вильгельму Второму, — вы намереваетесь идти с нами.
Оставалось еще одно дело. Взяв в руку бутыль с каким-то реактивом, возможно, с перекисью водорода, Петр стащил с крючка возле двери белый лабораторный халат. Поставив закупоренную бутыль на пол, он надел халат поверх одежды.
— А теперь вы оба выметайтесь отсюда. Патруль может вернуться. И если они не проявят особой дотошности, то могут решить, — он указал в сторону Вильгельма Второго, — что я — это он.
Не отрывая глаз от Лауры, я ответил Петру:
— Хорошо. Мы уходим. — И склонившись поближе к ней, добавил: — Прощай, моя ненаглядная.
А потом я направился к выходу, не оглядываясь, предоставляя Вильгельму возможность последовать за мной, если он этого захочет.
Когда мы оказались у самого выхода из облицованного стальными листами коридора, Кароль и Зенон уже были на месте. Оба они держались за рукоятки и с любопытством посмотрели на нас.
— А где?..
И тут в лаборатории позади нас грохнул выстрел.
Лаура!
И я понял, что Петр даровал ей вечный покой единственным остававшимся у него способом.
— Пошли, — я потянул Вильгельма за рукав. — Теперь нам придется как следует поторопиться.
Он поспешил выполнить подразумевавшийся под этими словами приказ, не подозревая, что я разгадал его обман: такая конструкция никогда не сработает.
Так я спас мир, более ничего не стоивший для меня.
Внутри огромного помещения засуетились патрули, устремившиеся к оружейным кладовым; тяжелые сапоги глухо топали по устланным ковровыми дорожками коридорам. Однако они пропустили старшего научного специалиста, уходившего подальше от неведомой опасности, вдруг объявившейся в лаборатории.
Мы были уже слишком далеко, чтобы услышать звуки стрельбы, однако я знал: Петр дорого продаст свою жизнь.
А потом было узкое дефиле, в дальнем конце которого лежали четыре окровавленных трупа — убитый в полном составе патруль, а наш друг Станислав, бледный, смертельно раненый, стонал на полу будки часового.