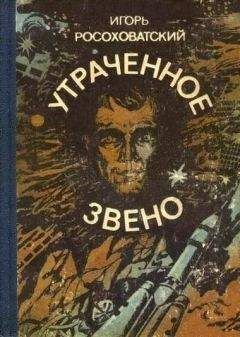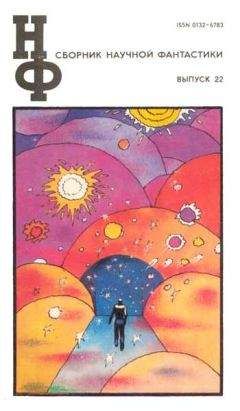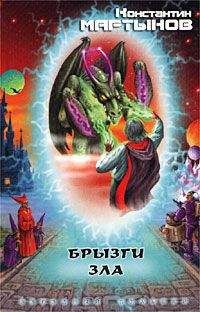— Ты дважды спас мне жизнь. Нет, не дважды — двадцать два раза, — попытался я сказать громко, но получился шепот.
Акдаец ничего не ответил, только наклонил половину ореха, и кокосовое молоко полилось мне в рот. Я машинально сделал несколько глотков, и метис засмеялся. Может быть, у меня был очень смешной вид, а возможно, он смеялся от радости, что я выжил и он не остался в джунглях один. На шее акдайца вместе с его первым ожерельем висело второе — из когтей и клыков Губатама. Останки хищника, как рассказал мне позже Этуйаве, пришлось оставить в джунглях из-за свалившей меня лихорадки. Акдаец сделал раствор из сока манго и порошков хинина — и с помощью лекарства выходил меня.
Конечно, было очень жаль, что он не захватил хотя бы череп удивительного зверя, но я не стал упрекать проводника. Он и так проявил больше благородства и мужества, чем это свойственно любому дикарю-метису. Он вел себя почти как полноценный человек, у которого с-излучение преобладает над у-излучением.
Все же беспокойное любопытство ученого не оставляло меня. Снова и снова я перебирал в памяти все, что знал о доисторических ящерах, о чудовище штата Мэн, дожившем до нашего века. Судя по описанию, это был геозавр, живое послание эпохи, отставшей от нашей на сотню миллионов лет. Но Губатам напоминал ящеров совсем немного — разве что хвостом и лапами. Зато его голова напоминала скорее голову человека. И самое главное — ящеры обладали крохотным мозгом, их поведение было узко программированным поведением машин, предназначенных для перемалывания и усвоения мяса и костей, для размножения и постепенного самовыключения, чтобы освободить место для потомков. А поведение Губатама включало элементы, доказывающие, что хищник обладал весьма развитым мозгом. Он следил за нами, плывя под огромным листом лилии, чтобы мы не заметили его. «Кто знает, может быть, его легкие нуждались в атмосферном кислороде, и он дышал через камышину. Конечно, это было чересчур разумно для зверя, но разве он не напал на нас в сумерках, к тому же, когда мы плыли к берегу, разве не пытался помешать нам причалить? Какой зверь вместо того, чтобы попросту бить в днище лодки, попытался бы опрокинуть ее, ухватившись лапой за борт? Может быть, из всех животных только шимпанзе или горилла додумались бы до этого, но ведь предполагают, что у обезьяны был общий предок с человеком… С человеком… С человеком… С человеком…
Эта мысль, вернее — осколок мысли, застрял в моем мозгу, будто наконечник стрелы, и не давал покоя. Мысль к чему-то вела, что-то подсказывала, была началом клубка, который требовалось размотать. Я смутно чувствовал это, но был слишком слаб даже для того, чтобы думать.
С человеком… С человеком…
Животным приходится иметь дело с человеком. Им приходится убегать от человека, покоряться человеку, приспосабливаться к человеку… Человек постепенно становится для животных определяющим фактором внешнего мира, более значимым, чем наводнения или пожары, засуха или холод. Выживает то животное, которое умеет приспособиться к человеку, стать полезным «ему, или ухитряется укрываться от него, выживать вопреки его воле. Или… да, есть еще «или», каким бы нежелательным оно ни было. Эволюция не стоит на месте. И когда-нибудь может появиться…
Почему-то у нас выработалась привычка: как только услышим о чудовище, особенно о крупном, то сразу предполагаем, что оно пришло из древних времен, ищем ему место в минувшем. Наверное, мы так поступаем оттого, что только в прошлом, когда не было человека и когда животным было просторно, находилось место для гигантов. Черт возьми, я правильно подумал, что эволюция не стоит на месте, что животное приспосабливается к человеку. Но приспособление — емкое понятие. И однажды должно появиться такое животное, приспособление которого будет заключаться не в том, что оно сумеет стать полезным или вовремя спастись, а в том, что оно будет нападать на человека, питаться его мясом и плодами его деятельности. Однако для этого оно должно иметь не только острые зубы или когти, не только непробиваемую бронь, мощные челюсти, быстрые ноги, а в первую очередь — мозг, в котором родятся дьявольские хитрость и коварство. Возможно, Губатам — именно такое животное, и он пришел не из прошедших эпох, а из будущих, в качестве первого посланца. Ах, если бы проводник догадался захватить хотя бы его череп! Забота обо мне занимала немало времени, но успел же метис вырвать когти и клыки зверя и нанизать ожерелье из них…
— Этуйаве отдаст мне это? — спросил я, указывая на ожерелье.
Метис решительно покачал головой:
— Этуйаве — большой воин. Он убил самого страшного зверя, и теперь дух леса Амари будет охранять его. Нельзя отдавать.
— Но это нужно не мне, а науке, всем людям, — продолжал настаивать я.
— Не все люди, а один Этуйаве убил страшного зверя, — гордо выпрямился метис и выпятил грудь. В углах его полных губ, чем-то похожих на губы Генриха, выступили капельки слюны.
Внезапно я подумал: а что если Генрих и его сородичи не только порождение прошлого? Ведь они сумели на протяжении эпохи так приспособиться, что сделались неодолимы. Может быть, травля, которую они и им подобные организовали против меня, — только начало гонений на лучших представителей человечества?! Эта травля начиналась еще в школе, когда происходит только становление личности. Уже тогда кучка подлиз и маменькиных сынков пыталась меня третировать. Особенно ненавистны мне были трое. Первый из них — Генрих, низенький, черноволосый, быстрый, экспансивный, постоянно «разговаривающий» руками. Он считал себя лучшим математиком в классе. Хитрость азиатских купцов, унаследованную от предков с генами, он догадался употребить не для торгашеских сделок, а для решения математических задач. Видимо, он просто рассчитал, что такое применение «наследства» позволит получать большую прибыль в современном обществе.
Второй — Карл, воинственный хам с огромными ручищами, прирожденный варвар и разрушитель. Вдобавок ко всему он проповедовал идею переделки мира. Конечно, при этом подразумевалось, что он и ему подобные будут хозяевами. Его мощные кулаки служили вескими аргументами в споре. Однажды он попытался пустить их в ход против меня, но не тут-то было…
Третий — Антон, внимательный и вежливый, изящный и тонкий, как трость с ручкой из слоновой кости, трость, в которой спрятано узкое лезвие стилета. Он старался не давать никакого повода для упреков в высокомерии, но тем не менее испытывал полнейшее презрение ко всем, кто был ниже его по происхождению. Меня он презирал за то, что мой отец — лавочник, и за то, что я плохо одевался. Он говорил извиняющимся тоном: «Ты хороший парень, но тебе не хватает утонченности». И добавлял небрежно: «Впрочем, это дело наживное, было бы желание да время». При этом он знал, что времени у меня нет и что родители мои против «бездельничанья» и «аристократического воспитания» в каком-нибудь специальном пансионе для выскочек.