Со двора в окна заглядывают: понизу — головенки ребячьи, над ними — бабьи платки, а поверх — мужичьи бороды. Завидуют, вона какая горевановская удача подвалила.
Сам десятник Иван Гореванов пьет мало, но веселья не портит: и песню завести горазд, и беседу, коль плясуны приустанут. Между тем за своими приглядывает: не учинилось бы какого непотребства. При гульбе строгость более надобна, чем в работе.
Гореванов собой пригож. Блудная женка, играя, платком ему ухо щекочет, ластится. Иван ее маленько локтем отодвинул:
— Ну-кась, не засти пляску.
— Уй, строгие мы какие! — ее хмельные глазки приязнью так и светятся. — Ванюшенька, правду бают, из монашенского ты звания, беглый? А меня, Ванюша, и монахи не обходят. Да взгляни хоть, экой ты! В кабак пришел, а сидишь святее архирея.
— Иди пляши, Дуня. Успевай, покамест балалаешник не захмелел, — выпроводил ее мягко.
Губки надула, к Прохору перекинулась. Афоня Пермитин осудил его:
— Пошто отгнал? Бабенка пышна.
Казак Семка тычет в бок Ахмета:
— Пей, басурман, скула сибирска!
— Крещеный я, — сердится Ахмет.
— Право? Тем паче пей. Лакай, друг, назло вашему аллаху! Веселись!
— Мне и без вина весело — Ивашка коня дал! Вах, знатный конь!
Гореванов хлопнул его по спине:
— И ты казак знатный, Ахметша. Ты его, Семка, не спаивай.
Васька Порохов, наплясавшись, десятника облапил, чмокнул в лоб мокрыми губами.
— Ивашка, атаман ты наш, башка премудра! За малая-сопляка экой богатый выкуп стребовал! Казаки! Эй, уймитеся, слухайте! Казаки, возглавим Иванку атаманом? Право слово. На кой нам ляд Анкудинов?
— Сядь, — одернул его на скамью Иван.
— Не-ет, на что нам Анкудинов? Вина ему дай, ясырь дай, коня дай. За каки доблести? Теперя Ахмет ему полведра винища снес — за что?
— То гоже, — вмешался Соловаров. — Пущай Анкудинов запьется к чомору. Ты, Иван, его не слухай.
Порохов не унимался:
— Еще и башкирца ему подарил ты, Ивашка. Продать бы купцу в работники, деньги пропить всем миром...
— Не бояре мы, холопами барышничать, — сказал Иван.
— Ясырь с бою взят, добыча праведная, продать — не грех. Башкирцы, сколь наших девок да мужиков персиянам продали — тыщи!
Один из казаков, лицом посуровев, молвил:
— Свояка мово Саввы Полухина из Ключевского высела сестру-девицу угнали о прошлый год. А у Максима Боброва жену тоже.
— Оно и худо, что мы и башкирцы продаем друг дружку, а надобно заодно бы... — покачал Иван головой.
Соловаров опрокинул в рот чарку, усы рукавом обмахнул, крякнул:
— Худо, нет ли, а живет испокон сия торговлишка. Эх, братцы, мне б хана ихнего споймать!
— И с женами всеми? — хохотнул Васька.
— Сказывают, у ханов табуны несметны, золота и каменьев самоцветных, и всякого богатства не считано. За хана выкуп огреб бы...
— Бери! — гаркнул Порохов. — Хватай хана! Обдери его как липку! Погуляем уж всласть! Поедем в Верхотурье-город, по всем кабакам зальемся, друг сердешный Филька...
— Не. Я б на Русь обратно, землю пахать. Избу поставил бы из бревен лиственничных, чтоб как терем боярский...
— При богачестве да землю пахать? Так не бывает. За сохою ходить тому пристало, у кого денег ни гроша, ума ни шиша, храбрости на таракана только. Казачья судьба — не пахать, а саблею махать, храбростью зипун себе добывать.
Соловаров отвечал раздумчиво:
— Ноне я казак, да родом крестьянский сын. В деревне своей, на Тамбовщине, хотел, вишь, землицы прикупить, хозяйство ставить крепко, да не сдюжил, силов не хватило... А ведь как тянулся, недопивал, недоедал, по грошику скапливал... Нет, Васька, деньги — они и пахарю надобны. С ними ни боярин, ни дьяк, ни сам черт меня не потеснит.
— Про черта не ведаю. А от бояр да дьяков не откупишься, им все мало. От них средство — сабля! — Васька вскочил, руками замахал. — Сказывали старики, когда во Яицком городке Степан Тимофеевич Разин стоял, — где те бояре-дьяки подевались...
— А после куды подевались казачьи сабли? Атаману — плаха, гулебщикам — петля.
— Зато гульнули деды — не нам чета!..
— Будя! — крикнул Гореванов. — Ты, Васька, ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами. Ежели на плаху шибко охота, то хошь бы за дело, не за слово пустое.
Притихли пьяные речи. Кабацкий целовальник, видя, что на гостей печаль пришла, дернул за ухо балалаешника. Тот спросонья с маху по струнам вдарил, зачастил плясовую. Женка Дуня, простоволосая, на красной роже ухмылка до ушей, вызывающе выпятив грудь, мимо Васьки пьяной павой заходила, платочком помахивая. Васька взвился.
— Чего сидим мы? Казаки аль думные мы дьяки? Не велик пост — казацкое воскресенье ноне! И-эх, тари-тари-тари, куплю Дуне янтари!
Дуня с привизгом ему:
Уж я тебе за янтари...
Ах, никому не говори...
— А и впрямь, айда-ко плясать, — поднялся Соловаров. — Пропьемся, тогда и думать станем.
— Размять, что ль, ноги. — И Пермитин пошел степенным приплясом к целовальниковой бабе, забыв, что своя в окно глядит.
Гореванов улыбался плясунам, но сам вкруг не шел, балалайке не подпевал. Не ко времени — от байки про выкуп, что ли? — вспомнился день вчерашний, когда пленных отдавали.
С утра явилось солнце в пустом блеклом небе, жгло горы, перелески, сушило землю, пашни жаждою томились. Злое нынче солнце. Прогневалось небо, грозит пожарами, недородом...
За острогом на равнине приречной пыль с утра, и дым, и топот, крики. Пахнет шерстью паленой — казаки лошадей, кои для себя, клеймят своим тавром. Для торга пойдут неклейменые.
В стороне верхами трое улусников. На лицах скуластых, темных, как седельная кожа, тень презрения к суете. Улусники выкуп пригнали. Ругался бай, всех бил, пока мулла с купцом не улестили: вах, удалой сын у бая Тахтарбая! Русские глупы, но молодого карагуша оценили по достоинству, от того баю Тахтарбаю честь, не надо скупиться, не надо торговаться, надо сына выкупать.
За полдень управились казаки с табуном, в острог загнали, чтоб вороватым улусникам соблазну не было. Оседала пыль, висел над рекой в безветрии парной дым залитых костров. Улусники терпеливо ждали: десятнику Гореванову верить можно.
Гореванов с двумя казаками, при них Ахмет толмачом, вывели из ворот острожных молодого Тахтарбая и Касыма. Парню сказано было, какой выкуп отец дал — за него одного два десятка отборных скакунов, а Касым так, даром отпущен, ради почтения к байскому роду Тахтарбая. Узнав это, баенок стал себе дорог, от гордости превознесся, на десятника и казаков взирал надменно. Раздулся от важности, страхи недавние забыв. Казакам смешно. От удачи подобрев, малая потешили — поклон ему отвесили, сами ухмыляются в бороды. Баенок ухмылок не заметил, но и на поклоны ответствовать не унизился, животик выпятил, шагов десять прошел достойно — и не утерпел, побежал, вскочил на оседланного коня.
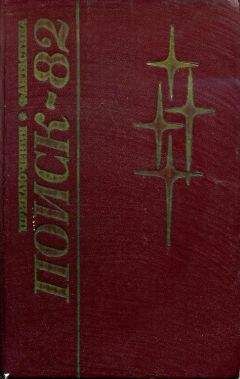
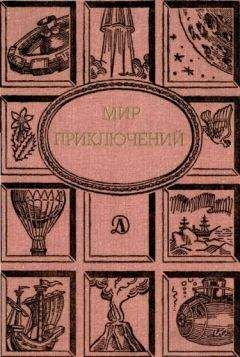


![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/21645/21645.jpg)
