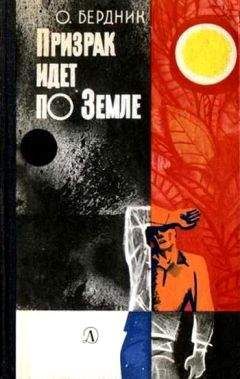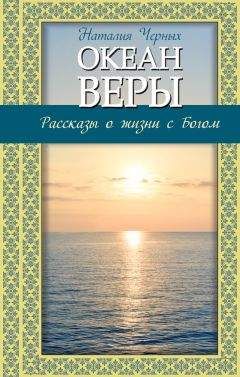— А как? — невинно переспросил я.
Коммес вспыхнул.
— Не прикидывайся наивным мальчиком, Лосс! Именно ты должен сказать, как это произошло.
— Я вижу вокруг надзирателей. Почему я должен знать то, что входит в их обязанности?
— Не притворяйся! — заорал Коммес, уже не сдерживаясь. — Потр, вероятно, вышел в дверь! Значит, ему помогли надзиратели. Ты, конечно, знаешь, кто именно! Не бойся, скажи, и я гарантирую тебе сокращение срока…
Коммес сощурился, подумал, переглянулся с начальником тюрьмы, добавил:
— … а быть может, даже добьюсь полного твоего освобождения!
Я вздрогнул. Полное освобождение. Немедленно…
Неужели это возможно? Но какой ценой! Рассказать этим палачам о мечте Потра, о его ожидании избавления, о пилюле и записке? И предать надзирателя, который помог Морису и, быть может, готов помочь мне?
Мне стало стыдно. Как я смею даже думать о такой возможности! Морис, уходя, не забыл обо мне, оставил спасительную нить… Нет, нет, прочь подлые мысли!
— Почему вы молчите, Лосс? Отвечайте!
О, даже на «вы» перешел заместитель министра! Какая хитрая лиса! Видно, важная птица Морис, если такие чиновники съехались сюда!
— Меня очень привлекает ваше обещание, господин Коммес, — тихо ответил я. — Я мечтаю о свободе, но…
— Но? — резко переспросил Коммес.
— Но, откровенно говоря, я ничего не знаю.
— Ложь!
— Думайте как угодно! Я спал весь день. Когда проснулся, Потра уже не было. Я удивился и подумал, что его вызвали к начальнику.
— Еще раз — ты лжешь! — крикнул Коммес. — Я обещал свободу за раскрытие преступления, но не сказал о наказании!
— За что?
— За преступное укрывательство!
— Мне нечего больше сказать.
— Еще не поздно!
Я молчал.
— Несите распашонку! Считаю до десяти! — торжественно-злобно промолвил Коммес, показывая хронометр.
Я затравленным взглядом смотрел на него, на солдат, на надзирателей.
Охранники внесли «распашонку», расстелили на полу. Это был четырехугольный кусок прорезиненной ткани с отверстиями для шнурков.
Коммес рукой указал на «распашонку», поднял хронометр.
— Решай! Раз… два… Десять! Начинайте!
Два надзирателя подскочили ко мне, сорвали с меня одежду. Я закричал, вырываясь из крепких рук:
— Оставьте меня! Я ничего не знаю!
— Лжешь! — злорадно возразил Коммес. — Скажешь!
Надзиратели повалили меня на расстеленную «распашонку». Я ощутил, как тугая ткань стягивает тело, задерживает дыхание, останавливает кровь. Болью резануло виски, тяжелыми стали веки. Захватило дыхание, не хватало воздуха. Я захрипел.
— Развяжите!.. Не могу…
Ко мне подошел врач, попробовал пульс.
— Еще выдержит, — успокоил он.
— Слышишь, что сказал врач? — цинично промолвил Коммес. — Еще выдержишь! Но я прикажу снять распашонку. Будь умнее!
— Я ничего не знаю…
— Вот упрямый! — пробормотал Коммес. — Негодяй!.. Дайте ему котлет!
«Котлетами» тюремщики называли резиновые шланги, наполненные водой. Они при ударе не оставляли следов на теле, причиняя страшную боль.
Надзиратели выполнили приказ шефа. На меня обрушился град ударов. Я потерял сознание.
Очнулся я на каменном полу. Было темно, сыро, холодно. Ночная свежесть вернула мне сознание. Жар сжигал мое тело, разрывал голову.
— Пить! — простонал я, жадно глотая холодный воздух. Дыхание со свистом срывалось с моих запекшихся губ. — Пить…
Я слышал, как звякнуло окошечко. Послышался равнодушный голос:
— Не сдохнешь! Воду получишь завтра.
Я изнемогал. Из последних сил дополз к стене, слизывал влагу, покрывавшую камни. Она была насыщена плесенью и смрадом, не утоляла жажду. Опять куда-то проваливаюсь…
Холод пронзил тело. Черная решетка. На ее фоне мерцающие звезды… Я все вспомнил. Тюрьма Маро-Mapo! Значит, я выжил после «распашонки»…
— Пить! — застучал я в дверь, изнемогая от жажды.
Низкий гул покатился по коридору.
— Замолчи! — крикнул надзиратель за дверью. — Опять котлет захотел?
— Умираю…
— Не подохнешь! — проворчал кто-то за дверью.
Я упал на холодные камни пола. Слезы ярости и отчаяния полились из глаз.
Пилюля! Я вспомнил о ней. Моя последняя надежда. Она была спрятана в уголке куртки. Вернули ли мне одежду?
Я пощупал вокруг себя. Наткнулся рукой на куртку. Слава богу! Я быстро вытащил шарик. Пилюля осталась цела. Они не нашли ее.
Я в изнеможении откинулся на спину, закрыл глаза. Спокойно. Надо вытерпеть до среды. Мне уже нечего терять. План Мориса — единственный шанс на спасение.
Перед рассветом я задремал. Боль немного затихла. Жажду смягчила прохлада.
Утром в карцер зашел начальник тюрьмы с надзирателями. Он наклонился надо мной. Послышались вкрадчивые слова:
— Одно слово — и ты получишь все: пищу, воду, хорошую комнату! Господин Коммес не забыл своего обещания. Ты будешь свободен, если…
Я нашел в себе силы пробормотать в ответ:
— Оставьте меня в покое!
Начальник отошел от меня. Послышался его голос:
— Пусть подыхает!..
Загрохотала дверь. И снова мое сознание окутал мрак.
В полдень, когда отблески солнечных лучей проникли в карцер, надзиратель принес мне кружку воды к полфунта черного хлеба. Это была трехдневная норма.
Я не дотронулся до хлеба, но воду жадно выпил…
Проползла неделя. Неделя несказанных мук — физических и духовных. Я не знал, что решила администрация, как обернулось дело с побегом Потра, но меня не трогали. Несколько раз приносили воду и хлеб, но врача не присылали, несмотря на мои настойчивые просьбы. Начальник тюрьмы, видимо, решил доконать меня.
Я тщательно считал дни. В среду на рассвете сто раз прошелся по карцеру, держась за стенку. Ноги подгибались, все тело ломило. Тяжело будет мне уходить, если даже план удастся, но иного пути нет. Это — единственный…
Перед заходом солнца была проверка. Я ожидал этого времени. За несколько минут перед этим я добыл заветную пилюлю. Какое-то мгновение колебался. Получится ли? Быть может, я собственными руками приближаю смерть? Вдруг Морис оставил мне яд? Записка — только утешение, а на самом деле он хочет избавить меня от многих лет каторги? Впрочем, если даже так — спасибо ему за все! Пусть лучше смерть, чем вечные муки. Будь что будет! Я перешагнул грань, за которой уже нет страха.
Я проглотил пилюлю, лег на спину. Прислушался. В конце коридора слышался лязг запоров, шаги надзирателей.
Судорога свела мои руки и ноги. Мгновенно одеревенело тело. Но странное дело, сознание было ясное. Я чувствовал, что сердце и легкие почти перестали работать.