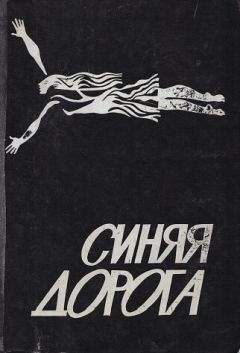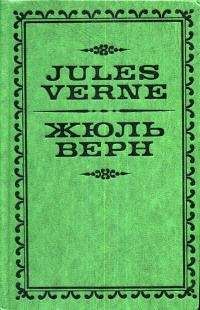Постепенно, однако, все вошло в норму. Дни, наполненные и ровные, складывались в четверти и полугодия. От каникул до каникул в Школе клокотала жизнь. Да и на каникулах, если правду сказать, ученики не забывали Школу: то утренник, то хор, то мотоциклетный кружок. Потосковав, Школа прекратила эксперименты. А нерастраченную любовь перенесла на молевских ребятишек Олежку и Катю.
Впрочем, трехлетняя Катя мало отличала воображаемое время от реального, поэтому легко променяла смешной Кроличий город под крыльцом — с танцплощадкой и базаром! — на купленную Леонидом Петровичем целлулоидную куклу. То ли у толстой спокойной лупоглазой девчонки полностью отсутствовала фантазия, то ли Школа не ладила с дошколятами…
Другое дело Олег. Школа считала его ровесником — он пошел в первый класс в год ее открытия — и потому сразу нашла с ним общий язык. Сначала были автомобильчики — Олежкиного роста, но с настоящим мотором… Красивый пони для разъездов… Карликовый дирижабль… Гостеприимный капитан Немо на «Наутилусе»… В восемь лет Олег уже на льдине Папанина. А в десять после недолгих, но решительных уговоров волшебница Школа отпускает его в Испанию. Там, к сожалению, Олежке не повезло: во втором же бою ему прострелили ногу навылет. Но три недели в пионерлагере (естественно, лишь об этой отлучке из дому знали родители!) настолько его подлечили, что по возвращении он почти не хромал. Побега его, таким образом, никто не заметил: Школа умела вклеить месяц своего независимого времени в какой-нибудь получасовой промежуток обыденного мира.
События, пережитые Олегом в ледовом лагере Папанина или под пулями фалангистов, имели реальность для него одного, он это без труда осознавал и никогда никого не пытался убедить в обратном, даже невзирая на такие откровенные свидетельства его правоты, как звездчатый шрам под коленом, И все же поинтересуйся кто-нибудь вовремя — знаменитый полярник наверняка припомнил бы удивительный случай, когда к его палатке спустился на парашюте мальчик с подарками от белорусских школьников и через два дня храбро убежал на лыжах к далекому материку. Да и в интернациональной бригаде гарибальдийских стрелков вряд ли позабудут легконогого серебряного горниста. Что перед этим насмеки мальчишек — после того как на уроке географии Олег едва не выдал себя слишком уж подробным рассказом о полярном дрейфе?
Характер у Школы испортился не сразу, во всяком случае, не с того момента, когда в поселке прозвучало слово «война». Она без ропота перенесла потерю стекол — невдалеке бомбили переправу. Вскоре осколки мин исцарапали стены, местами догола ободрали штукатурку, но кожа дело наживное, нарастет. Не взволновал Школу даже неоконченный летний ремонт — не такой человек Леонид Петрович, чтобы учебный год застал его в непригодном здании, успеет. Слово «война», с которым у людей связывались ужас и боль, по-прежнему оставалось для Школы просто словом, вызывало представление не более чем о маршах, подвигах, веселых маневрах и прочей романтике, почерпнутой из того же Дюма да из Купера. Она хотела по привычке послушать мысли директора, но обнаружилось, что он ушел добровольцем и с тех пор не подавал о себе вестей.
Обеспокоило Школу внезапное исчезновение учеников. Август перевалил на вторую половину, а по классам все также штабелями громоздились парты, гулял сквозняк, ветер заносил внутрь запах гари и пыль, хлопала во втором этаже сорванная с одной петли форточка. Конечно, это была не ее забота, на это существовал завхоз. Ее доля следить, чтоб сырость не мешала, не отпугивали детишек неясные шорохи, не давили на стриженые затылки потолки. А уж с этим Школа как-нибудь справлялась.
Но директор и завхоз не появлялись, не возвращались ученики. Детей в поселке осталось совсем мало, да и те крались в тени домов одиночками, без гомона и возни. Канонада прокатилась мимо — больших оборонительных сооружений под Дыницами не возводили. Несколько дней в классах лежали раненые, и Школа, серея от чужой боли, отвлекала их видениями пальмовых пляжей, поила прохладной газированной водой. Потом раненых спешно погрузили в машины и увезли. К зданию подлетели на мотоциклах люди в серо-зеленых шинелях, поговорили на лающем языке, прибили к двери табличку «Комендатура». Язык этот незнакомым, однако, не был: семь лет Школа с каждым новым поколением зубрила превращенные в дразнилки спряжения: «Их бине, ду бине, полено, бревно, что немка дубина мы знаем давно…»
«Немку» Гитель Иосифовну ругали зря. Она была близорука и добра, учила терпеливо, не придиралась и судьбу свою последние годы оплакивала лишь оттого, что приходится преподавать ненавистный большинству жителей предмет, который сама она к тому же любила. Эвакуироваться ей было некуда, и ее едва ли не в первый вечер привели на допрос.
— Юде? — обрадовался комендант, рыжий толстый офицер с засученными рукавами, открывающими крупные веснушки до самых локтей. — Это ест славно… Ми вас будет мало-мало стреляйт… Абшисен…
И звучно прищелкнул в воздухе пальцами.
Говорил он по-немецки каким-то сумасшедшим ломаным образом. Словно иначе эта русише лерерин[1] не поймет. Даже после того как она прочла ему с вызовом, стараясь блеснуть университетским произношением:
Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы — воздушным царством грез,
Там наш престиж бесспорен.
Там гегемония нашей страны,
Единство немецкой стихии.
Как жалко ползают по земле
Все нации другие…[2] —
он лишь презрительно поднял бровь:
— Хайнрих Хайне? Он не ест наш немецкий поэт…
— Что вам от меня нужно? — спросила Гитель Иосифовна сразу же осевшим и тихим голосом.
— Ми вас тоттен нихт…[3] Ви будет ест переводчик…
— А если я не соглашусь?
— Кто же вас спросит? — брезгливо спросил офицер, переставая коверкать слова. — Отсюда нет выхода!
Он обвел рукой бывший директорский кабинет, уязвимый и голый после того, как фашисты выбросили прямо через окно работы ребят-умельцев. Лишь макет электростанции, превращенный в пепельницу, сиротливо стоял на отдельном стуле. Своим жестом рыжий офицер как бы давал понять, что имеет в виду не только кабинет и это здание, но весь поселок, и захваченный кусок страны, и насильно водворенный новый порядок, — отовсюду Гитель Иосифовне не было выхода. Он склонил голову к плечу и прищурился. Потом решил, что дал достаточно времени на размышление, и вновь шутовски прищелкнул пальцами: