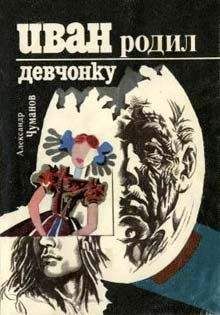Так гигантский гриб оказался за высокими стенами. Входа внутрь не сделали нарочно, окна во двор, можно смело считать, тоже не выходили. Так что жизнь города Фугуева потекла в прежнем спокойном русле. Время от времени жителей пятиугольника еще спрашивали насчет поганки, — растет, дескать, или не растет, — но жители и сами толком не знали, да и не интересовались.
Так и живут фугуевцы по сей день. Знают, что вообще-то есть у них в городе такая большая-пребольшая поганка, но ее как бы и нет. Фугуевцы и к некоторым другим явлениям природы, да и не только природы, научились теперь подходить с той же удобной меркой: «Есть, но как бы нету».
Сомнительную какую-то сказочку ты, друг, придумал…— говорят мне бдительные люди и глядят с прищуром.
— Да что вы, ребята, — уверяю я, — обыкновенная сказочка про волшебный гриб.
А самому мне страсть как хочется разобраться с фугуевским дивом, мне кажется, что для абсолютной жизни, счастливой и вечной, нам именно этой ясности и недостает.
Капитолина Викторовна Оглоблина-Шумская называла себя литератором. Впрочем, это не она сама придумала. Так уж повелось в школе. Преподаватель физики — физик, химии — химик, ну а литературы — литератор. И надо сразу признать, что литературу — то, что принято под этим понимать в некоторых учительских кругах, — Капитолина Викторовна знала назубок. Память у ней была дай бог каждому.
Когда-то давным-давно окончила Капа учительский институт и приехала в отдаленный поселок в твердой уверенности, что уж она-то посеет «разумное, доброе, вечное» в этом забытом богом населенном пункте, посеет, несмотря на трудности и возможные лишения.
И мать, и бабушка, и прабабушка Капитолины Викторовны были самоотверженными и бескорыстными просветительницами, они не гнались за дешевой славой и почили в безвестности, но память о них переживет века. Эта мысль всю жизнь была для Оглоблиной-Шумской путеводной звездой на тернистом пути. И она несла свою двойную фамилию, свидетельствующую о хорошей наследственности, с гордо поднятой головой. Правда, первая часть фамилии звучала несколько плебейски, но это еще как посмотреть.
С самого начала нелегкой, но значительной жизни Капитолина Викторовна облачилась в строгую униформу разночиницы, состоявшую из темного, глухого, длинного платья с кружевным воротничком и такими же манжетами, простых туфель на низком каблуке и гладко зачесанных на прямой пробор волос. Облачилась и не изменяла этой форме никогда. Разве только ситцевый халатик для дома давал Капитолине редкие часы расслабления. Очень редкие. В этом халате она не позволяла себе появляться даже перед соседками, которые думали, что учителка и в постель ложится, не снимая своего траурного наряда. Но никто ни разу не решился произнести вслух это предположение. Таково было уважение, внушаемое молодым педагогом. Впрочем, невысказанная молва была не столь уж и далека от истины. Для ночного отдыха у Капитолины Викторовны имелся специальный комплект белья, состоящий из таких надежных предметов, что если бы кто-нибудь, упаси бог, покусился на честь просветительницы, он бы ни за что не справился с бесчисленными хитроумными застежками и завязками. Да и спала Капитолина Викторовна всегда очень чутко. Так спит лошадь, которую забыли или поленились распрячь на ночь.
Но за всю жизнь никто ни разу не посягнул на невинность учительницы. Сперва молодые люди обходили ее за версту, потом вдовцы и разведенные шарахались от нее, как черт от ладана, (пришло время, и одинокие благообразные старички тоже не выказали стремления приковаться к строгой деве цепями Гименея, хотя все всегда признавали ее определенные прелести. Даже и в преклонном возрасте, когда многие привлекательные детали, естественно, исчезли из ее облика, когда она сделалась совсем худой и плоской, отчего стала казаться еще более высокой, чем на самом деле. Ее лицо и в этом возрасте сохранило некоторые останки прежней миловидности. Но ни один мужчина ни разу в жизни не поглядел на Капитолину как на возможный предмет любви.
Впрочем, все это никогда не огорчало ее и тем более не обижало.
«Неудивительно, эти мужланы инстинктивно чувствуют глубину пропасти, которая отделяет меня от них», — думала она и ничего, кроме удовлетворения, не испытывала. Сомнений в себе она не знала.
Зато о детях Капитолина Викторовна знала все-все. Еще бы, такой педагогический стаж! Сколько она этих деток в своей жизни повидала.
На родительских собраниях Оглоблина-Шумская разражалась такой продолжительной речью, состоящей из бесконечных назиданий бестолковым родителям, что те сперва подавленно молчали, как нашкодившие недоросли, а потом в родительской среде зарождался тихий гул, который все нарастал и нарастал. И по мере нарастания гула ораторша все форсировала и форсировала свой закаленный голос. Полуторачасовую лекцию о воспитании ребенка в семье она, как правило, заканчивала где-то на близких подступах к инфразвуку, отчего дребезжали стекла и у слушателей поднималось артериальное давление. Но не было случая, чтобы Капитолина Викторовна закончила выступление, не произнеся всего выстраданного и наболевшего. Хотя выстраданное и наболевшее чаще всего было вычитано из разных педагогических журналов, скопившихся в ее комнате за многие годы в огромном количестве. Вычитано, заучено, принято близко к сердцу. Так близко, что давно уже стало своим, кровным.
Изобретения и новации в области педагогики Капитолина Викторовна любила, но только тогда, когда они спускались к ней сверху, как архангелы с неба, в виде министерских инструкций. Впрочем, все эти новации ничуть не мешали ей всю жизнь благополучно потчевать своих питомцев откровениями насчет лишних людей, типичных представителей и прочего в том же роде. Кто-то ругал и высмеивал примитивизм в преподавании, а она знай потчевала и была на самом высоком счету.
Капитолина Викторовна навеки усвоила, что если есть тучи, то они непременно «свинцово-серые»; если снег, то обязательно «искристый-серебристый»; если солнышко, то исключительно «красное». И ежели кто-то из ее подопечных позволял себе пользоваться собственной терминологией, значит, он не мог рассчитывать на сколь-нибудь высокую оценку своих знаний.
Ну а тот, кто отваживался завести с Оглоблиной-Шумской спор о литературе, всегда оказывался безжалостно посрамленным. Потому что она знала наизусть не только, скажем, «Евгения Онегина», что было в ее время не такой уж редкостью, она знала наизусть «Войну и мир», а это, согласитесь, знание феноменальное, против которого никто не устоит.
…Незаметно подкрался пенсионный возраст. И были устроены торжественные проводы заслуженного человека.