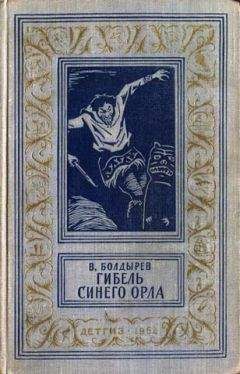Впереди головной машины, скрытая пургой, во всю прыть скачет упряжка из дюжины отборных псов. На длинной нарте сгорбились две фигуры в обледенелых мехах. Груза на собачьей нарте нет. Лишь походная рация с прутом антенны отличает ее от охотничьей нарты. Она несется впереди каравана, точно рыбка-лоцман перед носом акулы.
В нарте — Костя и Илья. Это наше “сторожевое охранение”. Они высматривают трещины.
И все-таки… чувствуем себя на льду океана не в своей тарелке. Под нами стометровые глубины, тракторный поезд весит полсотни тонн. Что, если лед не сдержит? Не могу побороть невольного опасения…
После памятного разговора с генералом я вылетел из Магадана на специальном самолете, через Омолон в Певек. На Омолоне мы приняли на борт Костю с Ильей. Втискиваясь в крошечный самолет с тюками походного снаряжения, Костя ворчал:
— Своих дел, что ли, на Омолоне мало? Кой черт несет нас, Вадим, в Певек?
Невидимое за сопками солнце освещало Омолонскую котловину малиновым светом. Тополя и чозении,[14] опушенные изморозью, склонялись над замерзшей протокой. Свежесрубленные домики совхоза, заметенные сугробами, приютились среди мохнатых коричневых лиственниц. Из труб поднимались к розоватому небу ватные столбики дыма. За лесом горбились малиновые заснеженные сопки.
Тишиной и спокойствием веяло от мирной, идиллической картины.
В самом деле, куда несет нас из теплого, насиженного гнезда? Грустно расставаться с Омолоном. Здесь все выстроено собственными руками, тайга исхожена вдоль и поперек.
Дверка кабины захлопнулась, взревел мотор, самолет развернулся, взметая лыжами снежную пыль, и понесся по белому полю замерзшей протоки, подпрыгивая на застругах. Приникли к иллюминаторам, прощаясь с Омолоном…
И вот тяжелый караван, громыхая гусеницами, несется сквозь воющую темь по льду Чаунской губы. Широким языком замерзший залив глубоко врезается в чукотскую тундру. Это видно на морской карте, развернутой у меня на коленях. Идем курсом на устье Чауна, где разместилась база оленеводческого совхоза, организованного Бурановым.
Там снарядим свой торговый олений караван. Оттуда кратчайшим путем можно проникнуть в сердце Чукотки, к отшельникам Анадырских плоскогорий.
Прокладываю курс, орудуя транспортиром и линейкой, как заправский штурман. Кажется, ледовый рейс окончится благополучно: сделали половину пути — вышли на середину Чаунской губы.
Пурга не стихает, беснуется с прежней силой; снежные космы бьются в зеркальные окна, как подстреленные чайки. Словно плывем в белых волнах. Хорошо за стеклами утепленной кабины! Клонит ко сну, укачивает на пружинистых подушках комфортабельных сидений. Вспоминаю трудные дни перед выходом в снежный рейс…
В Певек мы перелетели с Омолона без всяких приключений. На следующий день в кабинете начальника Горного управления состоялось бурное совещание. Против экспедиции во внутреннюю Чукотку возражали местные ветераны. На Чукотке они прожили много лет и утверждали, что сейчас не время для такой операции. Опыт окружной торговой экспедиции окончился плачевно: представители фактории были убиты при весьма загадочных обстоятельствах, да и случай с разгромом стад Чаунского совхоза, зашедших в верховья Анюя, тоже свидетельствовал о неблагоприятной обстановке.
Старожилы предлагали подождать завершения коллективизации в районах, прилегающих к неспокойному сердцу Чукотки.
— Время не ждет! — рявкнул из своего угла Костя. — Давно нужно было кулачье прижать. А вы цацкаетесь, двадцать лет ходите вокруг да около. А они оленей у Чаунского совхоза хапнули? Хапнули. Местных работников к себе не пускают? Не пускают. К “верхним людям” их отправляют? Отправляют. Несознательных тундровиков вокруг себя мутят? Мутят. Сила тут нужна…
Характер у Кости горячий, решительный. Слишком экспансивное выступление вызвало недовольные реплики.
Старожилы, работавшие среди чукчей по двадцать лет, великолепно изучили их прямодушный характер и предпочитали действовать убеждением, примером, увещеванием. В этом они видели смысл национальной политики в неосвоенных районах Чукотки.
Я задумался.
“Не странно ли, что в последние годы эти увещевания не давали толку? В центральной Чукотке происходили какие-то непонятные сдвиги. Стада крупных оленеводов увеличивались, власть их укрепилась, подняли голову шаманы, хозяйство Чукотки, разорванное на два непримиримых полюса — коллективное в приморских районах и откровенно частновладельческое во внутренних территориях, — плясало на месте. Правильны ли эти полумеры сейчас, когда жизнь всего края готова так стремительно шагнуть вперед?”
Последнее слово в те времена оставалось за представителями Дальнего строительства. Но я так погрузился в собственные мысли, что не заметил наступившей тишины.
— Ну, так что будем делать? — нетерпеливо спросил ведущий собрание начальник Горного управления, посматривая в нашу сторону.
— Золото не ждет, — сейчас нужны… более решительные действия, — ответил я. — Торговый караван необходимо снаряжать, и немедленно…
Тут поднялся молчавший до сих пор молодцеватый полковник, оставив на спинке кресла шинель. По-военному коротко он заявил, что гарантировать безопасность каравана во внутренних районах можно только с хорошо вооруженной охраной.
Костя одобрительно хмыкнул и громко зашептал:
— Шут с ними, Вадим, возьмем охрану, переоденем их в кухлянки, оружие в спальные мешки спрячем!
Я встал:
— Нет… охраны, оружия не возьмем… Таков приказ генерала.
Полковник развел руками, соболезнующе покачал головой и сел, поправив на блестящем ремне кобуру пистолета…
Мне так ясно представились эпизоды совещания, что я забыл о пурге, не слышал зловещего воя урагана, рокота мощного мотора.
…В снаряжении каравана приняли участие все, кто был на совещании. Иными словами — вся администрация Певека. Разногласия были позабыты, делалось все, что возможно. Нас провожали так, словно мы отправлялись в пасть дракона.
Особенно помог нам главный механик Горного управления — худой человек с грустными темными глазами и длинным лицом в глубоких морщинах, удивительно похожий на любимого моего писателя Александра Грина. Все его величали Федорычем и относились с большим почтением.
Руки у него были просто золотые. В механической мастерской он творил чудеса с разбитыми вдрызг машинами, отслужившими свой срок моторами, поломанными гусеницами, обретавшими у него вторую жизнь и действовавшими безотказно в любую певекскую стужу.