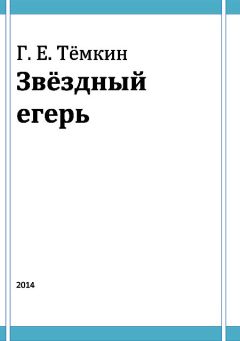— Так.
— И вот появляются два каких-то типа, перед которыми заискивает начальство, и требуют, чтобы их — без путёвки, в нарушение всех правил — вели в заповедный лес убивать животных. Так?
— Так.
— Нет, не так! Во-первых, мы ничего не требовали, ваш Ларго сам пригласил нас на охоту. По-вашему, нам надо было отказаться? Фыркнуть негодующе? Да вы знаете, что такое охота? Охота — это страсть, это болезнь, если хотите, но болезнь полезная, оздоравливающая организм, восстанавливающая его, как воздух свежий, как настой женьшеня, как этот ликёр. Тот, кто болен охотой, чувствует себя уверенным, жизнеспособным, сильным. Он чувствует себя мужчиной. Я занимаюсь охотой с восемнадцати лет и могу сказать, что лучшие минуты моей жизни — за операционным столом и на охоте. Я побывал на десятках планет и почти всюду, где есть дикие звери, охотился. Иногда по путёвке, чаще — нет, просто по договорённости с местным начальством. И никогда не считал себя варваром, убийцей, врагом живого. Я люблю природу не меньше вас и понимаю её, смею думать, не хуже. Ни в земных лесах, ни в джунглях других планет я не чувствую себя чуждым, посторонним элементом, а это значит, я сливаюсь с природой и становлюсь её неотъемлемой частью. В масштабе Вселенной. Вот что даёт мне охота.
— Но ведь можно и не убивать.
— Э-э, нет! Хотим мы или нет, но природа — это круговорот смертей, который регулирует и качество, и количество. Конечно, человек в состоянии нанести природе непоправимый урон, но хищничества сейчас никто не допустит. А подстрелить зайца или оленя — смешно говорить об этом. Их с таким же успехом мог завтра задрать леопард. Зато, когда я вхожу в лес с ружьём, я сам погружаюсь в этот круговорот и знаю, что ищу свою добычу или, может быть, стану добычей более умелого зверя. Так, и только так, можно достичь полного соединения с природой. Человеку, пришедшему в лес с кинокамерой или биноклем, настоящее удовольствие до охоты недоступно. А у вас-то, Стас, на кого мы идём охотиться? Всего-навсего на уток. Мне рассказывали, их тут тучи. Каждый сезон они гибнут тысячами и возрождаются десятками тысяч. Неужели вы как эколог можете предположить, что гибель нескольких водоплавающих скажется на природном равновесии планеты?
— Нет-нет, Глен, ты не совсем прав, — вступил в разговор Бурлака. — Если все так будут рассуждать. Один убьёт десяток уток, другой — десяток, и неизвестно, что останется годика этак через два. Потому и объявили тут заповедник. И вовремя: народу в колонии, я слышал, уже под тысячу. Но, молодой человек, — он ткнул пухлым пальцем в сторону Стаса, — бывают в жизни ситуации, когда правила приходится нарушать. И разрешить сделать из хорошего правила хорошее исключение может нам только наша совесть. Впрочем, иногда роль совести берет на себя начальство. Вам, Стас, не хотелось делать для нас исключение, но всё же вы послушали начальника.
— Эколог не подчинён генеральному директору, — счёл нужным вставить Стас.
— И, тем не менее, вы сделали, как он хотел. Потому что понимаете: Ларго лучше вас может судить о целесообразности некоторых моментов. Стас, вам ещё много лет работать на Анторге, и, поверьте мне, вам не раз придётся водить в этот лес гостей с ружьями. Но будет это не часто и потому впишется в экологические рамки.
Стас слушал добродушное рокотание Грауффа, весёлый, бойкий говорок Бурлаки, и то ли от усталости после долгого перехода, то ли от вкусного, сытного ужина эта их незаконная охота виделась ему не в столь уж неприглядном свете. Вторя доводам главного врача, он убеждал себя, что и впрямь десяток уток для заповедника ничего не значат, а Ларго думает об интересах всей колонии, и маленькое нарушение правил — вовсе не нарушение, а своего рода дипломатия. Мысль понравилась Стасу: конечно, он повёл их на охоту из дипломатических соображений.
Стало прохладно, и они перешли в палатку, ещё немного поговорили об охоте, рыбной ловле, потом забрались в тонкие ворсистые спальные мешки. Бурлака было принялся рассказывать, как обрабатывать шкуры, чтобы сохранить естественный цвет, но Грауфф вдруг оглушительно, с присвистом всхрапнул.
— Намёк понял, — кротко произнёс завкосмопортом. — Отхожу ко сну.
Вскоре в палатке, разбитой у реки на краю анторгского леса, ровно и глубоко дышали во сне три человека с планеты Земля, и если бы кто-то прислушался к их дыханию, то сразу понял бы: спят люди, у которых отменное здоровье и завидное душевное равновесие.
Было ещё совсем темно, когда охотники покинули палатку и двинулись к берегу. Ночь стояла чёрная и тёплая. Слабо шелестели листья, откликаясь на ветерок, едва колышущий воздух. Пахло сонным предрассветным лесом, рекой и ещё чем-то таким знакомым, земным, однако вспомнить, что это за запах, Бурлаке никак не удавалось.
Дойдя до воды, каждый надул себе лёгкую, почти круглой формы лодочку. Шёпотом пожелав друг другу удачи, они разъехались. Заранее было условлено, что Бурлака поедет налево, к кустистому островку, а Грауфф встанет в заросшем тиной заливе справа. Стас охотиться не собирался, он сказал, что будет собирать образцы водорослей неподалёку от лагеря.
Сделав несколько гребков вёслами, похожими на теннисные ракетки, Бурлака обернулся, но темнота уже растворила и его спутников, и берега, и саму реку. Он словно снова оказался в открытом космосе, в непостижимой всеобъемлющей черноте, где даже мириады звёзд кажутся всего лишь горсточкой неосторожно рассыпанной сахарной пудры.
Бурлака прислушался к неожиданно сильно застучавшему сердцу и улыбнулся: ощущение было ему хорошо знакомо. Оно часто приходило, когда поднятый загонщиками зверь, хрустнув веткой, появлялся в двух шагах от него на просеке; и когда спиннинг, до того чуть подрагивавший кончиком в такт колебаниям блесны, сгибался в дугу и тупо замирал, словно схватившись крючком за корягу, а через секунду оживал, отдавая в руку тяжёлыми, отчаянными рывками засёкшейся рыбы; и когда искрящееся мелководье в ярко-зелёных пятнах водорослей и апельсиновых кустах кораллов вдруг обрывалось, растворяясь в синей глубине, и он, чувствуя себя в маске и ластах одиноким и беззащитным, зависал над прозрачной и в то же время непроглядной бездной. Нет, это был не страх, а так, лёгкий страшок, он не мешал ни выстрелу, ни хладнокровию, и потому Бурлака никогда не отгонял его, а, напротив, смаковал, как чашечку горького кофе, и испытывал даже лёгкое сожаление, когда это состояние холодящего возбуждения проходило.
Было так темно, что Бурлака не мог даже различить кольцо со швартовочной верёвкой в полутора метрах от себя на носу лодки. Чтобы не проплыть мимо островка, который он присмотрел себе по карте накануне, он начал считать гребки. Если по полметра на гребок, остров должен быть гребков через пятьсот — шестьсот. Пять… Двадцать восемь… Сто тридцать два… Четыреста десять… Заскрежетав днищем по топляку, лодка развернулась, ткнулась бортом в нависшие над водой кусты и остановилась. В кустах сварливо взвизгнула какая-то птица, захлопала крыльями и, отлетев от островка, опустилась на воду где-то неподалёку.