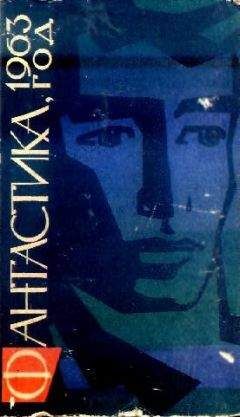— Их помощь, — продолжал Демокрит, — могла быть большой. Может быть, они оставили таблицы, чертежи, чтобы люди земли их прочли хотя бы через тысячи лет, когда их разум просветится. Может быть, так и было. Кто знает, что поглотили волны веков! Сегодня, как раз перед твоим приходом, я раздумывал над одной египетской рукописью, такой мудрой, что это показалось мне невероятным при ее древности. Я подумал: не мудрость ли это другого мира, переданная нам? Не могу этого утверждать, но не стану и отрицать.
Диагор был настолько ошеломлен услышанным, что некоторое время не мог произнести ни слова. Он растерянно смотрел то на еле видного в полутьме Демокрита, то на ослепительно сияющую звезду Афродиты, от которой по волнам струился столб ярко-голубого света. Такие же столбы, но бледнее и других окрасок, стояли от Сатурна и Меркурия, от наиболее ярких звезд.
— Невероятно! — пробормотал он наконец.
— Невероятность этого доказать труднее, чем возможность. Почему невероятно? Разве не верим мы Гомеру, не умеем отделять в его поэмах сказки о богах от исторической истины? Почему же не верить Моху, который не приплетает к своему рассказу никаких богов?
— Слишком уж…
— Что?
— Фантастично.
— А мы сами не фантастичны, скажи? Все вокруг нас фантастично, Диагор, начиная с какой-нибудь бабочки, ее удивительной окраски, ее хоботка, способного проникать внутрь самых причудливых цветов, ее светящихся глаз и необыкновенных превращений, и кончая этими падающими звездами. Взгляни кругом! Разве не волшебство весь этот насквозь загадочный мир, в котором лишь на первый взгляд все случайно, а на деле все имеет причины и следствия, только мы еще не в состоянии уловить их! Говорю тебе: когда-нибудь мудрецы других тысячелетий постигнут то, о чем лишь смутно догадываемся мы, и то, перед чем мы становимся в тупик, как перед этим золотым дождем. И когда-нибудь эти мудрецы так же подивятся нам, как я сегодня дивился египтянину Ахмесу, который решил задачу на объем усеченной пирамиды за полторы тысячи лет до меня. Как, скажут, мог какой-то Демокрит так невероятно давно додуматься до того, что мир состоит из атомов, а космос из множества миров? Не загадочно ли это? Но пройдет еще пять, десять, сорок тысяч лет, и еще более совершенные и мудрые станут то же говорить о них. И так это будет бесконечно, ибо бесконечен космос и неисчерпаема жизнь атомов в нем. Нет, Диагор, я чувствую дыхание истины в том, что мне открыл старый Ахирам. На истину у меня чутье не хуже, чем у Ликады на дичь или у пчелы на нектар. Потому-то я и отважился написать в своих книгах о множественности миров, хотя никаких доказательств, кроме ссылки на Моха, предъявить не могу. Говорю тебе: даже если наш мир погибнет, как ты предрекаешь (невозможного в этом нет), это не будет означать гибели разума во вселенной. Разум вечен, ибо вечна материя. И так же неуничтожим, как неуничтожима она.
Диагор молчал. Сгущающаяся к рассвету ночь внезапно показалась ему страшной. Он представил себе необъятность космоса, рождение и гибель в его первозданном, беспредельном мраке неисчислимых миров и содрогнулся. На него вдруг повеяло жутью от неестественно яркого перед рассветом блеска планет, от все усиливающегося золотого дождя, желтые стрелы которого, то и дело вспарывающие небо, тоже казались ярче, чем с вечера. Цикады смолкли. Лишь ветер, шурша листвой, накатывая шумные волны, нарушал немоту ночи и ее огней, беззвучно плывущих и беззвучно падающих.
— Что это летит? Откуда? Куда? — спрашивал сам себя Демокрит, вглядываясь в огненный дождь. — Если падают с неба камни, железо, стекло (а это-то мы знаем твердо, что они падают, держали их в руках, записали рассказы очевидцев), значит, заключаю я, и эти огни могут быть чем-то вещественным, а не пустой игрой света. Значит, и то, что поведал Мох, может быть не сказкой, а истиной. Кто знает, не пролетают ли это мимо нас, к иным мирам, на огненных колесницах такие же неведомые? Не из железа ли и стекла их колесницы? Не пылают ли тем самым огнем, которым пылают молнии? Кто знает! Мы только начали познавать мир, Диагор, и знаем о нем так мало! Тебе это известно так же, как мне. Доказать я тебе не могу, но знаю всем сердцем: мы не одиноки во вселенной, есть еще бесконечно много миров таких же, как наш, населенных мыслящими. Для меня это так же незыблемо, как то, что я Демокрит, сын Дамасиппа, брат Дамаста, Геродота и Клеаристы.
— Да, я вижу, ты крепко в этом уверен, — задумчиво произнес Диагор.
— А ты посуди сам: не слишком ли премудро то, о чем мы с тобой толкуем, чтобы приписать эту премудрость одному мне, или одному Левкиппу, или одному Моху? Премудрость, друг мой, передается от звезды к звезде, из мира в мир, а миров (повторю еще раз и не устану это повторять до последнего моего дня) бесконечное множество в вечном космосе.
Позади них, в зарослях, вдруг послышался шум.
Оба повернулись, обеспокоенные. Запыхавшись от бега, приближалась Демо.
— Господин!
— Что случилось?
— Я уже заснула, но меня разбудили голоса под окном. Да простят мне боги, что я доношу тебе на твоего брата, но это он сговаривался с кожевником Фермодонтом и еще кем-то побить камнями Диагора, как только он выйдет утром из твоего дома.
И Диагор и Демокрит вскочили.
— Что ты говоришь?! А впрочем, зная моего братца, удивляться тут нечему. Он всю жизнь выслуживался перед богами и начальниками. Но пока хозяин дома я, тебе нечего опасаться, Диагор.
— Ты не хозяин улицы и камней, которые на ней валяются, — ответил тот; пробормотал какое-то проклятие, секунды две думал, потом решил: — Ухожу.
— Куда? Сейчас, ночью?
— Именно сейчас. Растаю в этой ночи, как нетопырь. Доберусь до Византия, а там есть друзья, которые меня переправят в Тавриду. Прощай, дорогой учитель! Ты не знаешь, какою радостью была для меня эта встреча с тобой и этот наш разговор. Спасибо тебе за все. И тебе, Демо. Будьте здоровы и благополучны.
— Возьми с собой хотя бы еды, господин!
— И денег, — добавил Демокрит. — Я дам тебе.
— Деньги у меня с собой, в поясе. Еду добуду. Возьму только твой посох, учитель, чтобы не возвращаться за своим.
— Бери, конечно.
— Спасибо. Это будет память о тебе. Если поедешь в Египет, счастливого тебе пути и счастливого возвращений. И долгих, долгих лет жизни, не до ста, а за сто! — Он обнял Демокрита, помахал рукой Демо и направился к морю.
Ночная мгла тотчас поглотила его. Как ни вглядывались в нее Демо и Демокрит, стоя на обрыве, они не могли рассмотреть ничего. В море колебались отражения звезд. У берега все сильней били волны. Шумел ветер. А в небе продолжал литься неиссякающий золотой дождь в память о чудесном оплодотворении сластолюбцем Зевсом матери Персея.