— Простите, — перебил Кулагин. — В картах не разбираюсь. И вообще, видно, свое отгулял. Что-то мысли всякие пошли: больницу вспомнил, как там без меня... Жена чего-то из головы не выходит. Хотел было подарок ей купить, ничего нет в магазине, одни надувные крокодилы. Ну зачем ей крокодил?
Крошкин долго еще ворочался в постели, чертыхался, тарахтел в темноте спичками, курил, но мало-помалу затих.
Когда Кулагин вернулся с утренней пробежки и принялся растирать себя полотенцем, сосед спал с открытым ртом, и в комнате, несмотря на приоткрытое окно, стойко держался запах винного перегара и лука.
Андрей Емельянович уже старательно мылил лицо перед зеркальцем, когда Крошкин, проснувшись, тяжело спустил ноги на пол и, поглаживая лысину, принялся отдуваться с мученическим видом. Вздыхал и охал он довольно долго, однако Кулагин не выказывал сочувствия к нему, мучившемуся с похмелья.
— Сосед, — произнес Крошкин голосом, полным страдания. — Сосед, уважьте несчастного сироту, подкиньте десятку. Отдам перед отъездом.
— Пожалуйста, — откликнулся Кулагин. — О чем разговор. Удивительно...
Тут он осекся. Чуть-чуть было не изумился вслух, что нет ничего более странного, чем обладать тысячными ценностями и выпрашивать десятку. Конечно, необычные бывают ситуации. Марк Твен даже обыграл похождения владельца банковского билета в миллион фунтов стерлингов, который никто не мог разменять. И все же безденежье Крошкина как будто выступало против версии Пряхина. «А, может, болтливый, не очень опрятный сосед — гений притворства и маскировки? Передо мной-то — зачем? А-а, не все ли равно. Скорее всего, женщины, карты — вот и истратил наличные».
Получив деньги, Крошкин ушел, и больше в этот день Кулагин его не видел. Завтракал и обедал Андрей Емельянович в одиночестве и ничуть не тяготился. День выдался совсем по-летнему жаркий. В лесу, на скрытых от ветра полянах, хорошо пригревало. Ни серо-зеленом моховом ковре, устилающем пригорки, кое-кто из отдыхающих уже пробовал загорать. Андрей Емельянович не рискнул: сверху мох казался сухим, но в глубине рука еще ощущала холод долгой зимы.
Кулагин шел по просеке вдоль черных, кривых столбов. Впереди, сердито крича, кружились вороны. Линия электропередачи нырнула в сырую ложбину, выбежала на бугор и уперлась в крашенный голубой краской забор. За забором между соснами выстроились легкие, один к одному, домики с забитыми крест-накрест окнами. Это был пионерлагерь, пока пустой и тихий, как бы застывший в ожидании того, близкого уже времени, когда появятся буйные хозяева, когда все здесь оживет, как в сказке о спящей царевне.
Из глубины лагеря медленно, не теряя достоинства, притрусил большой черно-белый пес с закрученным хвостом и, сев возле забора, уставился на человека умными карими глазами. Лаять он не собирался.
— Скучаешь? — спросил Кулагин, просовывая между штакетинами руку. Пес ткнулся под нее головой и от наслаждения закрыл глаза.
— Скучаешь, — утвердительно повторил Андрей Емельянович, шевеля пальцами в густой шерсти. — Ну, ничего, скоро приятели твои, пионеры, приедут, будут тебе и пляски и ласки. Все переменится, все... Как гласит классическая латынь: «Темпора мутантур эт нос мутамур ин иллис», что значит: «Времена меняются, и мы меняемся с ними...» Черта с два! Не меняемся мы, не хотим меняться. Мы даже гордимся, какие мы неизменные, непреклонные...
Пес, склонив голову набок, не отрываясь смотрел прямо в глаза — очевидно, не был знаком с сочинением известного биолога, который утверждал, что собаки не выносят человеческого взгляда.
— А может, я ошибаюсь? — продолжал свой монолог Андрей Емельянович. — Может быть, мы со временем все-таки становимся другими?
Кулагин готов был поклясться, что губы собаки искривились в подобии улыбки.
— Ну вот, ты смеешься. Нехорошо, пес. Все-таки я — гомо сапиенс, человек разумный. Разумный — значит, могу размышлять, сравнивать, делать выводы, а у тебя только инстинкты, рефлексы и никакого сознания. Вот кто у вас вожак? Тот, кто лучше всех хватает за горло. Своего — для дисциплины, чужака — для расправы, А у нас, людей, иначе, у нас за горло хватать нельзя. Потому что если хватать за горло, в коллективе останутся одни шавки. Знаешь, такие, которые чуть что переворачиваются на спинку кверху лапками. И получится мерзость... Трудно, псина, быть вожаком, ох как трудно: иногда надо и рыкнуть, а иногда и сделать вид, что ничего не заметил. Потому что люди, как, впрочем, и собаки, обладают чувством собственного достоинства, и когда вожаки, забывая об этом, предпочитают только рычать, такое лидерство плохо кончается для всех. В том числе и для самого вожака.
Кулагин вытер платком потный лоб, а пес, поняв, видимо, что импровизированная лекция кончилась, завернул хвост колечком и отправился по своим собачьим делам.
После ужина Кулагин уселся в кресле главврача, любезно предоставившего коллеге свой кабинет для вечерних занятий, и принялся, далеко отнеся от глаз руку со свежим журналом, читать статью об эхолокации камней желчного пузыря. Углы букв расплывались; пора, конечно, было и об очках подумать, но сама эта мысль казалась унизительной — ерунда, временная слабость зрения, вызванная переутомлением.
Статья была интересной. Кулагин исписывал листы бумаги, думая, что подобные исследования можно было бы провести и у них в отделении. А подключить к этому делу лучше всего Анну Ивановну, тут как раз нужна женская дотошность. Глядишь, и сделает человек кандидатскую диссертацию. Что ж, он будет только, рад.
В палату Андрей Емельянович ушел, когда лампочка на столе вспыхнула чересчур ярко. Это означало, что отключился молокозавод, и время — после двенадцати.
Крошкина, как всегда, не было, но Кулагин и не удивился. Ничуть.
Спал он крепко, сны снились мирные, в зеленых тонах. Проснулся оттого, что кто-то тряс за плечо. Открыв глаза, Андрей Емельянович увидел Крошкина.
— Вставайте, доктор. День пламенеет!
Кулагин сел и огляделся. В открытое окно тянуло свежестью. Розовели еще только верхушки сосен. Было раннее, даже, пожалуй, очень раннее утро, и бодряк-сосед говорил неправду.
— Какого черта... — начал было хмурый Кулагин, но Крошкин, неестественно возбужденный, с блестящими глазами, перебил его:
— Бросьте, Андрей Емельянович, не сердитесь. Чудесное утро, ей-богу! Вставайте. Пойдемте гулять.
И, напевая «Утро туманное, утро седое», он принялся кидать Кулагину майку, рубашку, брюки.
Сердясь и в то же время подчиняясь его непонятной настойчивости, Кулагин нехотя оделся и вышел из дома. Бетон крыльца был темным от сырости, на сосновых свечках мелкими рубинами взблескивали капельки росы.
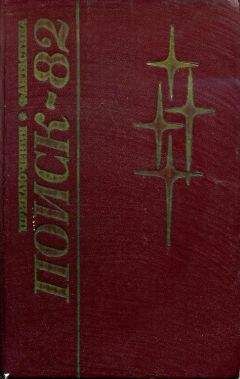
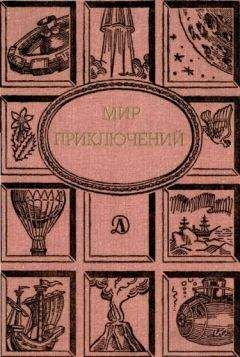


![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/21645/21645.jpg)
