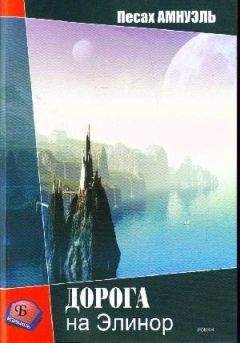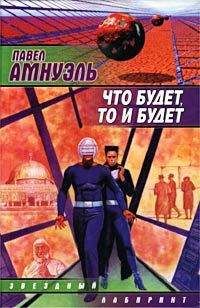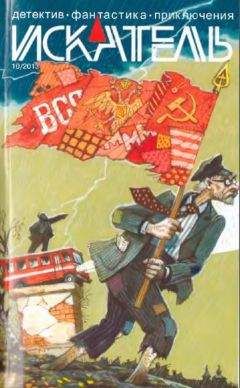— Но я точно знала уже тогда, что моя дверь будет не такой, как в рассказе. У каждого дверь своя, не такая, как у других. Моя вела в темный старый трехэтажный дом с широкими карнизами и тремя выщербленными ступенями перед входом… Вот они, видите? А в доме много комнат, и в каждой — свой-мой мир, отдельный и принадлежащий только мне, мир «я хочу так», и дом мрачен только снаружи, он специально такой, чтобы никому не хотелось в него войти, только мне, потому что я знаю тайну, а другие — нет…
— Так войди же! — не выдержала Жанна, Олег сжал ее ладонь, Терехов это почувствовал и ответил своим пожатием, а Варвара оглянулась на них и сказала коротко:
— Страшно одной.
Но войти она должна была непременно одна, перед Тереховым дверь не открылась бы, и перед Олегом с Жанной тоже, разве что Ресовцев мог оказаться в том мире, который не был для него предназначен, но Эдик молчал, и Терехов сказал, наклонившись к Варе:
— Это твоя дверь. Твой Элинор. Когда ты войдешь…
Он не закончил, но все случилось так, как он предполагал. Варя быстро прикоснулась к верхней кнопке, внутри дома раздался резкий приглушенный короткий звонок, в замке что-то щелкнуло, и дверь начала медленно открываться — внутрь, в бездонную глубину прихожей, в темное для Терехова чрево, где жило чужое пространство, которое он не мог видеть, потому что глаза не воспринимали лучей, приходивших из не предназначенных для него измерений. А Варя увидела — что-то такое, от чего лицо ее озарилось внутренним светом, глаза ярко вспыхнули, то ли излучая, то ли отражая какую-то радостную мысль, и сомнения исчезли, сраха не стало, детская мечта осуществилась, она шагнула через порог, не оглянувшись, дверь с тихим шелестом захлопнулась, и дом исчез, будто и не было его никогда на этом месте.
«Наступил вечер. Очень трудно, невозможно даже, словами русского (или любого другого) языка рассказать, что происходило в небе, на земле и в душах элинорцев, если то, что было у них над головами, можно назвать небом, то, во что погружались при ходьбе их ноги, — землей, и то, что беспокоилось, мучилось, радовалось и светилось в их телах, — душой.
Элинор лишь в четырехмерии Первого космоса выглядел покрытым облаками твердым и относительно холодным шаром, подобным Земле»…
Начать нужно, безусловно, с этого, иначе читатели вообще не поймут, о чем речь, и закроют книгу. Да, с вечера на Элиноре нужно начать, но уже на второй странице объяснить, что это — если пользоваться земными сравнениями — лишь вершина бесконечно большого айсберга…
Не годится.
Плохо. Плоско, как лист бумаги.
Терехов щелкнул клавишей мыши и отправил в корзину большой фрагмент текста, где он попытался описать не сам даже вечер на Элиноре, а только ощущение его приближения, ощущение, которое он и сейчас переживал, понимая, что истиное волшебство этого простого, казалось бы, явления природы, ни он сам и никто другой не сможет изобразить не только точно, но хотя бы на шаг, на миллиметр пространства приближенно.
Может быть, — подумал он, — нужны не обычные фразы, а гипертекст, возникающий в интернете и дающий возможность перемещаться от одной реальности к следующей.
Нет, и гипертекст не поможет — это те же фразы, только выстроеные в последовательности, способной пересекать самое себя.
Может быть, — подумал он, — нужен не обычный компьютер, а модель с бесконечным числом виртуальных внутренних пространств, погрузившись в которые сначала автор, а следом за ним читатель смог бы…
Нет, — подумал он. — То есть, конечно, да, физически это будет когда-нибудь возможно, но я-то живу сейчас. Или в будущем я тоже живу? И в прошлом? Что я знаю о себе, о собственных возможностях, обо всех сущностях, что являются мной во множестве миров и измерений?
Терехов понимал страдания Ресовцева — это были с некоторых пор и его страдания, — не сумевшего написать роман, видевшийся его взгляду и ощущавшийся его органами чувств. Ну что такое этот «Элинор» — вялое, ничего не отражающее произведение, смысл которого, как оказалось: тестировать читателей, искать среди них тех немногих, кому можно открыть многомерную суть и позвать в мир, где все неизмеримо сложнее, неизмеримо ярче, неизмеримо…
Я опять пытаюсь описать словами, — подумал Терехов, — и опять получается лживо, пусто, не нужно этого делать, и Ресовцев не должен был делать этого, он бы и без «Элинора» нашел меня и Олега, так же, как нашел в юности свою Жанну.
Он все равно ушел бы, купил веревку или наточил нож и ушел бы, потому что не только собственными желаниями определялась его жизнь, но желаниями того существа, чьей частью он был, чьей частью являемся мы четверо и еще много других существ, явлений, событий и законов природы.
Узнал ли я самого себя за эти дни? Нет, нет и нет.
А теперь еще и Варя. Где она сейчас?
Это неправильный вопрос — она там же, где была всегда, всю свою жизнь, но не понимала, а сейчас поняла, научилась управлять собственной энергией, пользоваться истинными законами природы. Одни обучаются сразу и поступают, как Варя, будто от рождения знали, чувствовали, умели — никаких проблем. А другие — как он, — вживаются долго, и даже поняв разумом, не умеют соединить собственную индивидуальную суть с собой-общим и остаются все равно разобщенными, будто личность, разделенная на четыре сути.
Терехов вспомнил замечательную (так ему в свое время показалось) повесть Роберта Шекли… как она называлась, дай Бог памяти… да, «Четыре стихии». Повесть была, вообще говоря, совсем о другом: о типах человеческого характера, четырех основных темпераментах. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик ищут друг друга, чтобы соединиться и образовать единую гармоничную личность. Шекли рассказывал о личности, обладавшей ограниченными возможностями — и все равно было интересно, последняя фраза давно прочитанной повести врезалась в память и сейчас всплыла, будто была прочитана даже не вчера, а минуту назад и еще не успела забыться: «Тело, бывшее собственностью Элистера Кромптона, временным убежищем Эдгара Лумиса, Дэна Стека и Бартона Финча, встало на ноги. Оно осознало, что настал час найти для себя новое имя».
Правильно, — подумал Терехов. — Вот почему у нас не получается. Зная о себе, что мы — единая личность, мы не можем этой личностью стать, потому что каждый продолжает цепляться за собственное «я», боится потерять его — себя. Мы готовы быть друг с другом рядом, помогать друг другу даже через разрывы пространств и времен, живые и мертвые, но еще не готовы стать единым целым и отдать себя тому, кем по сути являемся.