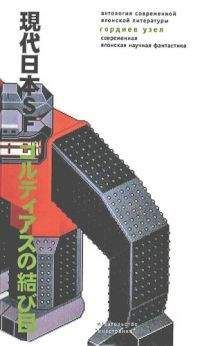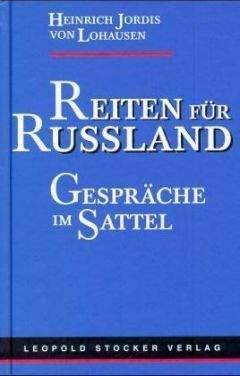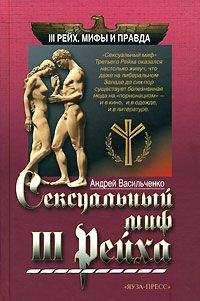Тут толпа раздалась, образовав проход, и появились двадцать буддийских монахов, специально для этой поминальной службы облачившиеся в накидки, смахивавшие на сутану иезуита Франциска Ксавье, из-под которых ярко краснели оплечья кэса; заунывными голосами они затянули сутры. Присутствующие, невзирая на возраст и звания, устраивались на подушках дзабутон, теснились, освобождая пространство перед домашним алтарем буцудан, дабы монахи смогли вволю попеть и потанцевать, ведь юбилейная поминальная служба не исчерпывается чтением сутр.
По сторонам алтаря, говорят, восседают молодые наследники главы рода, зато самого его покуда не видно, хотя на покой он вроде не удалился. Вообще-то прежде в торжественных церемониях главе рода отвадилась важнейшая роль, но в двухсотую годовщину роль эта оказывается совершенно несуразной и даже шутовской. К примеру, лет шестьсот назад тогдашний глава рода в такой же день запел в саду лягушачьим голосом, а потом впал в зимнюю спячку, о чем с одобрением вспоминают до сих пор. Разумеется, сегодня молодой господин не произнес никаких приветственных слов, молча присоединившись к обряду чтения сутр.
На поминальное двухсотлетие принято исполнять необыкновенные сутры-стихи, требующие умения каркать. Эти именуемые «вороньими» сутры сохранились в древних преданиях, и теперь окрестности оглашались непрерывным «кар-кар-кар-р-р»; конечно, их сокровенный смысл начисто ускользал, но вороньему граю подражали с полной серьезностью, выводя полагающееся «кар-р-р» на разные лады. Голоса достигали запредельной высоты, звенели от напряжения, удивляя и даже рождая страх. Исполнение длилось и длилось вопреки всему, и только какой-то один, особо усердный голос вдруг срывался, вызывая всеобщий хохот. И оттого что монахи продолжали голосить, не обращая на смех внимания, слушатели веселились еще больше. Некоторые монахи пускались в пляс.
Они кружились-вертелись, так что полы накидок разлетались по ветру и мелькали подошвы сандалий; непрерывно звучало «кар-р-кар-р», птичьими крыльями взлетали широкие рукава, и танцоры плясали, точно одержимые. Вот кто-то закричал по-птичьи, прочие расступились, а те двое, что остались внутри круга, продолжая перекликаться резким «кар-р» и приникнув друг к другу, принялись в танце изображать совокупление пернатых. Да без озорства, а с поразительной серьезностью: повадка, сила движений, поглощенность действом — все странным образом напоминало суровое монашье подвижничество. Причудливое зрелище! О чем-то подобном я слышала с детских лет, и первое впечатление оказалось не таким уж ярким. Что ж, я увидела то, что должна была увидеть.
Тут внесли перечный отвар. По такому случаю его разлили в заказанные специально ярко-красные лаковые чашки с родовым гербом. Каждому подносили огненное питье с семенами из лопнувших перечных стручков «соколиные когти». Едва кто-нибудь выпивал свою чашку единым духом, как к нему протискивался сквозь толпу слуга, чтобы ковшиком налить добавки.
Хохот, вызванный вороньими сутрами, и слезы от перечного супа вместе родили в людях небывалое возбуждение. В промежутке между двумя приступами смеха я ощутила внутреннюю свободу, позволившую, наконец, оглядеть окружающих. Мелькнуло лишь однажды виденное лицо двоюродного брата, лица дяди и тети. Все они облачились в красные траурные кимоно, и трудно было понять, кто где. Потом глаза вообще перестали различать родственников.
Монахи двигались, раздвигая толпу и продолжая заунывно каркать, правда, уже не столь громко. Парами, пританцовывая, они покинули собрание. Сосуды из-под перечного супа наполнились сакэ, перешептывания сменились болтовней. Молодой господин, облачившись в ярко-красное платье с фамильным гербом, вроде того, в каком выступают сказители ракуго, принялся брызгать сакэ на циновку татами и подушку дзабутон. После этого память потускнела, исчезли воспоминания, зато с отчетливой ясностью проступили фамильные черты рода Савано, словно ожили люди прежних поколений.
— Дивный напиток! А прежде в него еще и бодрящее зелье добавляли, — с этими словами мой дядюшка по отцу, большой шутник, удержал за рукав отставшего монаха и из собственной чаши влил в него перечного отвару.
В семействе Савано женщины рослые и полные, а вот мужчины отчего-то худющие. Глаза и нос кое-как ладят друг с другом, но родинки натыканы где попало; так что дядя типичный образчик нашей породы. С годами он совсем не переменился и выглядел близнецом моего двоюродного брата; помнится, они недолюбливали один другого, но сейчас вели оживленную беседу.
— Поистине, дядюшка, вы — душа всей церемонии!
— Да-да, что-то вроде привидения, жалкий человечишка. Хе-хе-хе.
Тут-то и выяснилось, что добрая половина монахов — воскресшие покойники.
Когда все несколько поуспокоились, молодой господин принялся из принесенного с собой пластикового пакета разбрасывать пачки фотографий. Свой замысел он излагал при этом крайне невнятно. Плел что-то вроде того, что на юбилейных поминках, как ни подлаживайся под вкусы гостей, все равно все традиционные нелепости сами собой примут форму непритязательных шуток.
— Вот, господа, к примеру, дом наш кое-как слеплен, без всякой идеи, да еще эти восемь новопостроенных крыльев — прямо не дом, а короткопалый спрут какой-то. Что до могил, то на кладбище идти бессмысленно, только нарушится течение времени, да и могилу можно узнать по фотографии. Вот одна: бьет фонтанчик, под ним устроена крохотная мельничка; над другой сооружен пластиковый козырек, выдающий себя за гранитный навес, на нем — нечто вроде оттиснутой по шаблону пагоды и изваяние Будды; детскую могилку обступили рекламные пингвинчики фирмы Сантори. Что там могилы, еда еще более нелепа! Впрочем, поминальной церемонии, от которой голова действительно идет кругом, не увидишь, покуда сам не помрешь. Вот я все дурацкие дела переделал с большим удовольствием. Коробочки для еды тоже сам придумал. На следующее двухсотлетие явлюсь уже гостем и вдоволь поиздеваюсь над опоздавшими. А лучше меня и вовсе никто не сделает. Прошу запомнить! — Он продолжал говорить, и нам, как бы между прочим, открывались истинные мотивы его поведения.
— Вот, взгляните на эти запасы еды. — У входа в кухню громоздились деревянные ящики со свежим ресторанным клеймом — «Рыбий яд». Раньше-то, видать, ресторан именовался «Рыбий мир», но я потребовал, чтобы заведение сменило вывеску, соответственно, появилось и новое клеймо.
Из всех щелей более чем сотни ящиков выползали ядовитые тараканы и исчезали в саду.
Как и полагается в двухсотлетие и вопреки житейской практике, женщины заняли свои места, а мужчины принялись доставать из деревянных ящиков еду и раскладывать ее на ярко-красных подносах. Посмотришь, так кроме питья, каждому досталось по два одинаковых блюда и засахаренные рыбки в целлофановых пакетиках.