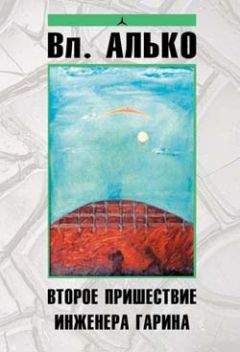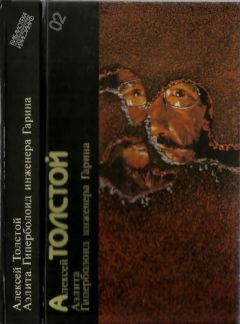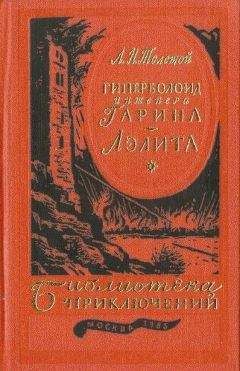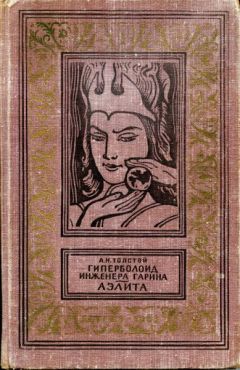Хенке догадался. Писулька оказалась с подкладкой, и в ней – справка, в машинописи, с круглой печатью.
– Справка? Так что же… – Хенке бездумно повертел бумажку. – Как ваша фамилия, имя, отчество?
«Так и есть. Светопреставление!» – Хенке вылупился на ходока.
– Что вы мне голову морочите! Вы же умерли!.. То есть (быстро вправил он себе мозги), – тот умер… Вы же… – Хенке вгляделся в необычного собеседника и похолодел. Бумазейный, черный фрак визитера, целлулоидные манжеты, воротничок…
«Второразрядные похороны», – встряло ему на ум. И он по-настоящему, за целые дни катастрофы, помертвел. Даже гибель собственных его сынов не обдала Хенке таким хладным током. Верно, хуже смерти, – это стать сумасшедшим.
– Вы хотите сказать… Когда вас должны хоронить? – Спросил Хенке в последней надежде.
Ходок ткнул себе в грудь; следующем жестом (пальцем) в пол.
– Вчера?! – гортанно вскричал Хенке, и все же с непонятным облегчением.
Стеклянно-радужная перелинка, в образе которой маячил силуэт пришлеца, чуть более расцвела.
– Требую справедливости… Восстановления в правах… – просюсюкал он.
Хенке развязно, как пустой мешок, обвис в кресле. Закрыл лицо руками.
– Хорошо. Идите. Все устроится. Будьте уверены…
Когда он, чуть успокоившись, решил взглянуть на мир божий, потустороннего ходока уже не было в кабинете.
* * *
Но Хенке так и не удалось в тот вечер пораньше уйти домой.
Все оттуда – от противоположной части города, – по ту сторону Щели, проскользнули к нему в кабинет еще трое не-людей. Секретарь был бессилен.
Вели себя пришлецы, примерно, все одинаково, с некоторым разнообразием в требованиях. Так, одному – с более чем справедливым требованием – нельзя было не отдать должное в мужестве. Он потребовал, – не более и не менее, – как вернуть ему «его возложение во гроб», то есть похоронить согласно христианским обычаям.
Но все устроилось само собой, как и предвидел Хенке.
Щель затягивалась, словно неглубокий порез.
Обыватели – по ту и другую сторону – все более приходили в себя и «умнели». Те же, которых надлежало хоронить, умирали самым естественным образом. Слабая (бредовая) надежда Хенке на возврат к посюсторонней реальности двух его сынов – отрицательно сказалась на здоровье. Через неделю он сложил с себя полномочия главы администрации К., а через два дня, – после странных, прямо запойных блужданий в горах, – подхватил простуду, и уже в лихорадке сошел с ума, так и не поняв, что умирает, унося с собой в могилу тайну последних встреч. Тайну, конечно, по тем первым дням и неделям. Будь же Хенке более ученого склада ума, он обратил бы внимание, что пришлецы и действительно были как бы под стеклом, или вписаны в некоторый пространственно-временный блок, в котором и снизошли в наш мир, подобно тому, как водяная блошка ныряет в придонном пузырьке воздуха. Отсюда происходила их явная неповоротливость и картинность. Этот запас некоторого «до-завтра», или «после-послезавтра», и был их собственным временем, которое они прихватили с собой за день или уже после реальных событий. Впрочем, здесь надо учитывать еще и возможную реверберацию и интерференцию с этими «за» и «после», и согласиться, что теория этого феномена достаточно не разработана. Тем более, что другие поздние проявления каузальных аномалий были еще более вопиющими.
Все так сошлось, что Шельге приходилось раз за разом откладывать свое возвращение в Союз.
Вначале это было в связи с его профессией, когда на некотором, не афишированном уровне, ему надо было подтвердить свое реноме в деле опознания одной особы.
Затем последовал казус в департаменте виз: паспорт, который Шельга сдал для соответствующего оформления, оказался то ли просроченным, то ли вовсе без фотографии… Когда утрясли это, с невероятной наглостью Шельге сообщили, что его командировочное предписание (или что там у него было), с отметкой пражской секции Интерпола, утеряно… Случилось это по вине секретарши, и что меры, де, принимаются.
Наконец, когда все бумаги были сысканы и формальности соблюдены, а Шельга взял уже билет на самолет, до Ковно, – вышла (нечего и говорить) отменно нелетная погода. Над всем северо-востоком – грозы и низкая облачность. Летный коридор обещали только в ближайшие четыре дня. Шельге ничего не оставалось, как заказать билет на Восточный экспресс, отправляющийся следующим днем, ближе к обеду. Таким образом – у него оставалось чуть более суток, чтобы прогуляться по улицам красавицы-Праги, о которой так много был наслышан.
День оказался настоящего русского бабьего лета, – с кружевным плетением лучей сквозь золотистую и багряную крону деревьев; с планирующей невесомой паутиной, – под стать вдоху и выдоху; солнечный, очень тихий, и будь Шельга более романического характера – элегически грустный. И все же род смирения присутствовал, – по типу: что сделано, то сделано. Был ли это компромисс с совестью, или род обреченности… проскальзывало мимо его сознания.
Сейчас Шельга держался неровной, узкой улочки, напоминающей ему Арбат. На нем было легкое светлое пальто и шляпа, которую он поминутно сдвигал тычком указательного пальца, и вновь плотно осаживал. Широкие обшлага брюк складывались и вольно полоскались при ходьбе. Лакированные штиблеты неуместно громко стучали по брусчатке. Несколько раз он как-то судорожно, глубоко вздохнул. Провел рукой по лицу, – оно было влажно. То, что с ним происходило, – удивляло и его самого. Это было похоже на симптомы гриппа. И совсем уже озадачило Шельгу – нахождение в кармане жилетного кармана облатки аспирина, приобретенного неведомо когда и где.
Улица фактически была пешеходной, – тротуары легко угадывались бордюром. Автомобили, какие если и проезжали, то с такой предупредительностью, что в пору было им распахнуть дверцы салонов, для большей вежливости с горожанами. Как вот эта машина – мощный американский «джип», пшеничного цвета, настолько близко поравнявшегося с Шельгой, что тому не оставалось ничего другого, как притиснуться к стене дома. Это уже никак не походило на галантность. Откровенная демонстрация превосходства и силы. Автомобиль сбавил ход.
– Вы так торопитесь, Шельга, – хмыкнуло из машины. – Но может быть нам опять по пути; как Василий Витальевич?
От подошвы ног и до темени – Шельгу пробила жаркая вольтова дуга. Солнце – вот только что бьющее в самое лицо, померкло, или даже зашло ему за спину. Он дернул головой, как от удара в челюсть, – и вдруг яснее ясного понял, что иначе и быть не могло, и только потому он никак не мог выбраться из Праги, что должна была состояться эта встреча. И как раз, может быть, по этой причине, для него нашлись сразу и робость, и грусть, и даже аспирин в кармане. Когда ты переходишь дорогу искусителю, попирающему самые вселенские законы, простительной становится любая человеческая слабость. Оставалось только поверить в это, или – с движением головы, Шельга словно отвел от себя тяжелый (свинцовее любой безнадежности) полог, – взглянул на того, кто… Ветрового стекла между ними не было. На Шельгу высунулось лицо, узнать которое он смог бы, и по-пришествию Судного дня.