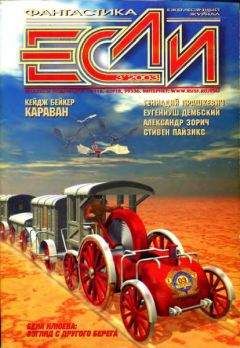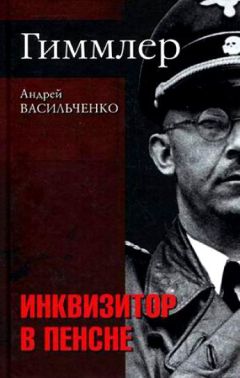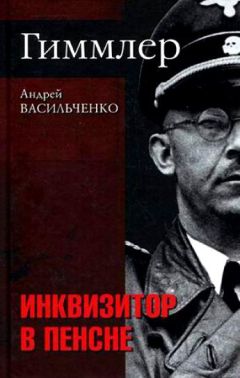А потом молоденькая медсестра сказала над ним: «…но как же, господи, как меня достала эта работа…», и он вернулся. Девушка смотрела заботливо и думала о мужчине, который подарил ей кольце. Хороший мужчина, в самый раз, и с деньгами, но где-то, в чем-то — сволочь. И вот это неопределенное все и портит. Как же можно человека любить, если он в чем-то сволочь?..
— Как вы? — чистым голосом спросила медсестра. — Вы меня слышите?
— Не выходи за него, — тихо сказал старик, глядя на ее гладкий лобик под белой шапочкой, — он всю жизнь твою поломает. А ты молодая. Хочешь быстро состариться?
Она удивленно отпрянула, и в мозгу ее заметалась мысль, что странный больной, в сущности, прав, хотя и непонятно, откуда знает все это.
— Я только что с того света, — слабо улыбнулся старик. — Ты уж верь мне. Тебе девятнадцать лет. Замуж ты успеешь.
— Но я тогда смогу не работать… — как загипнотизированная, ответила она.
— Если выбирать из двух зол меньшее, выбери работу, детка.
Ему стало страшно почти сразу, как только он понял, что может заглядывать в души. Ведь это значит — возненавидеть. Всех и навсегда.
Начиная с жены, которая приехала утром следующего дня. Ей позвонили, и она примчалась, возбужденно-радостная, с цветами, в съехавшей набок шляпке, сияющая, но где-то глубоко внутри, на дне искрящегося моря радости, лежал доисторическим обломком темный кусочек разочарования и скуки. Счастье обтекало его, покачивало на месте, но он был, этот кусочек, и старик с ужасом рассматривал его, не в силах поверить, что существует какая-то другая его жена, не та, что сидит у больничной кровати с яркими осенними цветами в руках.
В этом темном обломке было все: и давний страх измены, и почти забытые обиды, мелкие и крупные, и раздражение, и нудная нотка тоски, и накопившаяся усталость от этого долгого брака, и безликая нелюбовь, и клубок проблем. И все, все, все — самое холодное, отталкивающее, застывшее, страшное, что только может быть в женщине.
Его жена разучилась любить, и женщиной она уже не была, хотя хранила в шкатулочке души воспоминание о так и не встреченном прекрасном принце, который постепенно, с годами, растерял весь внешний блеск и стал просто сплавом честности и доброты, — только честности и доброты, — тех черт, которых так не хватает реальным мужчинам в мире огромного зла и равнодушия.
С детьми вышло еще хуже. Переступив порог своего дома, старик наткнулся на мысль младшенького, что теперь (черт подери!..) ничего не выйдет с переустройством отцовского кабинета («…ведь никакие должен был выкарабкаться, его Же чуть по асфальту не размазало…»). Сын улыбался ему и крутил в голове все это, как пластинку. Страшную пластинку с заезженными дорожками.
Старик прислонился к стене. Когда-то он кормил этого человека из соски, менял ему пеленки, пел песенки. Качал на коленях. Водил в зоопарк. Как все страшно.
Средненький вроде обрадовался, и пластинки никакой не было — ничего не было, даже фона какого-нибудь, лишь улыбка до ушей и животное спокойствие. Отец всмотрелся в его лицо, всмотрелся и вспотел от пустоты глаз.
Старшенькая — мать внучки — вышла из кухни, вытирая мокрые руки о фартук, и старик увидел себя ее глазами. Особенно — свое землистое лицо в морщинах и редкие седые волоски на лысине. Противно. Ей противно. Она не может заставить себя его поцеловать. Дотронуться…Он долго плакал в ванной. Особенно из-за внучки с ее простодушной идеей о том, что если дедушка умрет, он больше не будет заставлять ее спать после обеда. Именно так — если умрет. Лучший дедушка — мертвый дедушка. Слез добавило и то, что не позвонили друзья, ни один, словно и не вернулся он из мертвого пустого мира. Жутко быть одному среди людей. Не стоило сюда и возвращаться.
Он рыдал до боли в груди, до судорог и проклинал Бога за этот ненужный дар, так некстати упавший с неба под конец жизни. Жить больше не хотелось.
И тут, как спасение, пришла ненависть и дала силы. Много сил. Я останусь, решил он, останусь хотя бы для того, чтобы не доставить им радости своей смертью.
…В парке, куда он забрел, чтобы никого не видеть, молодой кот вдруг забрался рядом на скамейку, подлез под руку и начал напевать ему, трогая душу мягкими лапами своих уютных мыслей. Там, внутри, под этой пушистой теплой шкуркой, жил милый невинный мирок простых представлений, размытых картинок, смешных воспоминаний, детских образов, и все это словно плавало в счастливом тумане, в разноцветных искрах веселья и доброты. Старик снова заплакал, на этот раз облегченно. Выход есть. Он прижал кота к груди и долго сидел так, слушая, как бьется крохотное честное сердечко.
С того дня он приходил в парк каждый день и наслаждался добрыми мыслями птиц, белок, кошек, ласковых дворняг, даже деревья излучали что-то смутное, напоминающее тепло от тлеющих угольков костра. Ему было хорошо. Все портили лишь редкие прохожие, роняющие комки грязи из карманов своих душ, но вскоре он перестал их замечать.
Он мечтал и дома окружить себя зверьками, рыбками, попугаями, майскими жуками, черепахами, но боялся умереть и оставить крохотных друзей на попечение грязных двуногих, зовущихся его родственниками и соседями. Ему было не так уж много лет — шестьдесят, — но самому себе он казался древним, как сама планета. И очень усталым, словно тысячи лет ему приходилось крутить эту планету вручную.
Тогда он и придумал Дини — бестелесное существо, вместившее в себя лучшее из его души. Ведь было там лучшее, была и нежность, и честность, и доброта, и любовь, и мечты. Но все это так глубоко спряталось, что смогло выбраться в мир лишь в чужом обличье.
С Дини можно было говорить обо всем на свете. Он все понимал.
— Ты все понимаешь, — сказал ему старик, продолжая глядеть на вершину небоскреба. — Ты понимаешь даже то, что я перестал быть человеком. Правда?
— Ты не перестал быть человеком, — ответил Дини.
— А как иначе это назвать? — удивился старик. — Я ни с кем не разговариваю уже несколько месяцев. Я даже забыл, как это — разговаривать с кем-то. Я стараюсь никого не замечать, не слышать и не видеть. Неделю назад вон там, не перекрестке, автобус задавил ребенка. А я сидел на этой скамейке, курил и смотрел, как его останки грузят в труповозку. И мне было совершенно наплевать!..
— А если бы там был не ребенок, а собака? — усмехнулся Дини.
— Я бы плакал, — сказал старик. — Мне было бы очень грустно и жалко, если бы там была собака.
— Выходит, ты все-таки способен что-то чувствовать?
— Но не к людям.
Дини усмехнулся:
— Разочарования такого масштаба, какие испытал ты, переносить вообще крайне тяжело. Удивительно, что ты не покончил с собой. Чтобы с этим жить, нужна смелость. Или отчаяние. В тебе есть и то, и другое. И еще море ненависти, которая помогает тебе выживать. Людей ты ненавидишь. Но ведь любишь же ты кого-то? Пусть собак и кошек. Но любишь. А значит — ты еще человек.