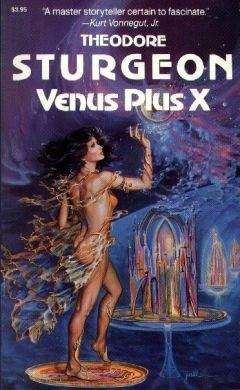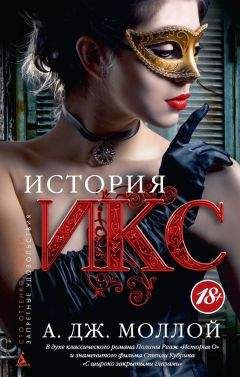— Все равно, я не вижу ничего плохого в том, что они не задумываются о сути дифференциала.
— Вот сейчас ты уже начинаешь понимать! Они просто не дают себе труда задумываться! Они не хотят думать об этом. Ведь они могут, да, могут работать с гораздо более сложными вещами — но просто не хотят. Возникает вопрос — почему?
— Наверное, думают, что это не женское дело.
— Почему же не женское? Они имеют право голоса, водят машины и вообще могут делать тот же миллион вещей, что и мужчины.
— Умом ты до этого не дойдешь, — ворчит Смитти, слезая с дивана. С пустым стаканом он идет к Гербу. — Я знаю лишь одно: если им так нравится, пусть так и будет. Знаешь, что Тилли купила вчера? Пару высоких сапог. Да, точно, как у меня. Вот я и говорю: пусть себе имеют свои слова, от которых мы впадаем в отключку. Может быть, когда мой сын вырастет, он сможет поэтому различить, где отец, а где мать, так что — да здравствуют различия!
Они отвели его из операционной в выделенную ему, как они говорили, комнату, и пожелали спокойного отдыха таким старомодным образом, что это напоминало «Пусть Бог будет с тобой», откуда, собственно, и произошло английское «Гуд бай». Чарли впервые встретилось их слово «бог», и то, как они применили это слово, произвело на него впечатление.
Он лежал один в довольно маленькой комнате, красиво украшенной в синих тонах. Всю переднюю стену занимало окно, выходившее на какой-то парк и опасно наклонившееся здание Первого Научного блока. Пол комнаты был несколько неровным, как и везде здесь, слегка упругим и, очевидно, водонепроницаемым, так что его можно было смывать. В углу и еще в трех местах комнаты пол вспучивался в виде гриба или валуна, контуры которых напоминали сиденья. Нажимая на маленький пульт в углу каждого сиденья, можно было изменить его размеры и форму, сделать ниже, выше, увеличить число выступов или сделать себе скамеечку под ноги, валик под плечи и подпорку под колени. Три вертикальных золотистых рейки у «кровати» регулировали освещение: проведя рукой между первыми двумя можно было усилить или уменьшить свет, а между вторыми двумя — получить цветное освещение. Такое же устройство располагалось около дверей — или точнее, у того места в стене, где находился выход. Достаточно было опять же провести рукой у выделенного орнаментом сегмента, чтобы стена со специфическим звуком разошлась. Стена, у которой стояла кровать, была наклонена внутрь, а противоположная стена — наружу. Прямых углов вообще в комнате не было.
Чарли оценил предупредительность хозяев, предоставивших ему возможность остаться наедине с собой и упорядочить свои мысли и чувства. Он испытывал благодарность и страх, ощущал комфорт и страдал от одиночества, был заинтригован и негодовал одновременно — ему необходимо было привыкнуть к своему новому положению.
Можно было отнестись ко всему легко: он расстался со своим миром и хорошим положением в нем; что касается и того, и другого, Чарли они достаточно надоели.
Что же осталось от этого мира? Случилась ли война? Кто теперь живет в Тадж Махале — термиты или там летают альфа-частицы? Выиграл ли в конце концов этот клоун выборы?
— Мама, ты умерла?
Отец Чарли так гордился, когда родился сын, — он посадил тогда семечко красного дерева. Вообразить только — красное дерево в Вестфилде в Нью-Джерси! Посреди суеты и тесноты строящихся домов, умышленно планируемых к сносу за десять лет до окончания срока выплаты ссуды. Отец представлял, как это дерево будет возвышаться на три сотни футов над развалинами. Но, совершенно неожиданно, он умер, оставив свои дела в неупорядоченном состоянии, к тому же страховка, не была полностью оплачена. Мать Чарли вынуждена была продать все то небольшое количество акций, которое отец успел приобрести, и они уехали из этого города. В семнадцать лет Чарли вернулся, влекомый неизвестно каким чувством — ему захотелось как бы совершить паломничество к прежнему очагу. Хотя он никогда не знал своего отца по-настоящему, а на месте дома он обнаружил развалины, как и предсказывал отец, у него екнуло сердце, при виде живого растущего дерева. Чарли прикоснулся к дереву и сказал: «Все правильно, папа». Потому что пока он был жив, мама не знала нужды и забот, а если бы он был жив она, скорее всего, так бы и не узнала их. Матери казалось, что отец, там где он находится, каким-то образом знает о всех ее горестях, нужде и унижениях, и она испытывала все недобрые чувства, которые испытывает женщина, подвергшаяся по вине мужа нужде и лишениям. Может быть, поэтому Чарли и хотел побывать здесь и рассказать все это дереву, как если бы отец был жив в нем, как эти чертовы дриады. Чарли было стыдно вспоминать все это, но тем не менее, он всегда, всегда помнил свое посещение.
Ведь сейчас дерево, наверное, большое. А, может быть, прошло слишком много времени, и оно погибло… Если рыженькая из Техаса превратилась в старую бабу с бородавкой на носу, живущую в каком-нибудь провонявшем нефтью порту, то и дерево выросло, а если Руфь (что же могло статься с Руфь?) умерла, то дерево вообще могло стать самым большим деревом во всем районе.
Хорошо, теперь он знал, что он должен выяснить в первую очередь. На сколько он перенесен в будущее? (Впрочем, это не имеет особого значения. Будет ли это двадцать лет, и мир изменится и станет чужим и враждебным ему, но все-таки более или менее знакомым, как это произошло с Рип ван Винклем? Или же прошло сто или тысяча лет? Какая ему разница?) И все же: раньше всего он должен узнать — на сколько?
Второй вопрос касается непосредственно его, Чарли Джонса. Как ему удалось выяснить, здесь нет никого похожего на него, одни эти лидомцы, кто бы они ни были. А кто же они?
Чарли вспомнил, что читал где-то, кажется у Руфь Бенедикт, что человек не несет в своих генах памяти о языке, о религии, социальном устройстве. Другими словами, если ребенок любой расы и страны окажется сразу после рождения в другом окружении, он вырастет таким же, как и дети своей новой родины. А еще он читал эту статью, прослеживающую ту же идею в масштабах всей истории человечества. Если взять ребенка в Древнем Египте, жившего, скажем, во времена Хеопса, и поместить его в современный Осло, то из него вырастет норвежец, способный овладеть азбукой Морзе и имеющий, скорее всего устойчивую неприязнь к шведам. Все эти рассуждения сводились к тому, что даже самое осторожное исследование, проделанное самыми незаинтересованными учеными, не смогло раскопать ни одного примера эволюции человека. Тот факт, что человек вышел из пещеры и в конце концов создал целый ряд цивилизаций к делу не относится, все-таки ему потребовалось не менее тридцати тысяч лет, чтобы создать их. Можно предположить, что если сообщество современных детей, достаточно взрослых для того, чтобы самостоятельно находить пищу, поместить в первобытные условия, то потребуется такой же срок, чтобы они воссоздали современную цивилизацию за те же тридцать тысяч лет.