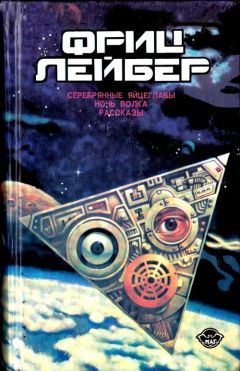Сиамцы никогда ничего не забывают. Как слоны.
Капитан поднимает голову и словно видит меня впервые. Молчание. Тихий гул вентиляторов. Тикают часы: тик, ток, тик, ток.
– Господин капитан, – говорю я.
– Я слышал, вы подали жалобу в комиссию адмиралтейства? – Нахтигер закидывает ногу на ногу, поправляет полу халата. – Это правда?
Я смотрю на его качающийся тапочек.
– Вы прекрасно осведомлены, господин капитан.
«От младшего артиллерийского офицера броненосца «Игефельд Магаваленским». Рапорт.
Патроны, имеющиеся к 6-дюймовым скорострельным пушкам системы Канэ, снаряжены гильзами, из которых часть имеет неплотный обжим, что может привести к попаданию внутрь влаги. При доступе влаги повышение температуры будет способствовать ускоренному окислению пироксилинового заряда. Так как в боевых погребах для 6-дюймовых патронов системы охлаждения (в т. ч. предусмотренные проектом) установлены не были…»
И так далее.
Коротко: боевые погреба нагреваются, опасны, возможен взрыв, настаиваю. Дантон.
Причем подал через голову капитана Нахтигера. И через высокую фуражку адмирала Штольца, командующего 1-й эскадрой. Другими словами, если меня придут распинать, я знаю, кто это будет.
Впрочем, сейчас меня волнует это меньше всего.
Дуэль.
– Считаете себя умнее других, лейтенант? – спрашивает Нахтигер.
Я не сразу понимаю, о чем он. Момент растерянности.
– Нет, но… пироксилин…
– Или просто боитесь?
– Господин капитан! – Я вскидываю голову, горячая волна упирается под горло. – Прошу вас, аккуратней с выражениями.
– Когда вы успели стать адмиралом, Козмо? – ядовито осведомляется Нахтигер.
Не скоро, если честно. В адмиралах я хожу после Второй Бирманской, значит, стал им… дай кальмар памяти, через двадцать семь лет после описываемых событий. Впрочем, сейчас разговор не об этом…
Появляется Тим, капитанский вестовой. На подносе, на белоснежной салфетке с синим вензелем – серебряный молочник, сахарница, стеклянная вазочка с бисквитами (в лучших традициях английского флота) и кофейные чашки. Числом две. Кофейник, из носика поднимается пар.
– Бирманика, сэр.
…Столько лет прошло, а я до сих пор помню горьковато-пряный, обжигающе-яркий вкус того кофе.
– Контрабанда, разумеется, – поясняет Нахтигер. – Пейте, Козмо, пейте. Наслаждайтесь запретным плодом. Вы заметили, лейтенант, странный парадокс – стоит что-нибудь запретить, как это «что-то» мгновенно становится в несколько раз лучше? Те же сомские бобы…
А теперь – к делу. Вы не для того подняли меня с постели в четыре утра, чтобы поговорить о погоде, верно? Я вас слушаю, лейтенант.
И он с удовольствием повторяет:
– Я вас слушаю.
6. ТангоНаверное, самое страшное ощущение в жизни мужчины – знать, что к одной определенной женщине ты никогда не сможешь прикоснуться. Чертовы суфражистки правы – мужчина есть животное.
Танго!
– Это танец одиночества и похоти, господа, – говорит Тушинский. – Одиночества и похоти.
Актер встает и делает круг по гостиной. На тот момент он еще не был пьян, а только готовился к переходу в это состояние.
– Непристойный танец. Его танцуют в борделях, – говорит он, словно доверяя нам некую тайну. Я пожимаю плечами. Танец из публичного дома, кого этим удивишь? Дурной вкус сейчас в моде. – Представьте, – продолжает Тушинский, – Аргентина, Буэнос-Айрес. Ночь, улица, фонарь над входом бросает красные отсветы на мостовую. Посетители танцуют со шлюхами. Или джентльмены из высшего общества… с джентльменами из высшего общества.
В зале раздаются смешки. Затем отдельные хлопки.
Ладно – удивил.
– Я старомоден, – говорит Тушинский. Кто-то скептически хмыкает. – Думаю, сыну докера это позволено? – В зале начинают смеяться. Все знают о его происхождении. Это придает аристократическим манерам Тушинского особый шарм. Как в давние времена – благородный, отважный, прекрасно образованный пират.
И да – сыну докера многое позволено.
Я смотрю на газовый рожок над его головой, желтый отпечаток тает на сетчатке, впаянный в прозрачное стекло. Гений, звучит у меня в ушах. Он, несомненно, гений.
– Поэтому я выбираю… – Тушинский медлит. Актер идет по гостиной, зрители затихают.
Тушинский останавливается перед сидящим в первом ряду человеком в черном фраке. Шеи у человека нет, бабочка лежит прямо на мощной грудной клетке.
Барон Мильс, кажется.
Мильс смотрит на актера исподлобья, с прищуром. По слухам, этот колобок – прекрасный стрелок, президент Общества охотников. Не знаю. Я не большой любитель охоты. Хотя в любом случае Тушинский рискует – не пулю, так отповедь он точно заработает. Барон Мильс еще тот фрукт.
Пауза. Зрители затаили дыхание.
Тушинский делает лицом «увы» и под общий смех разводит руками:
– Некоторые мужчины слишком красивы для меня.
Шут.
Барон багровеет, пыжится – затем не выдерживает и начинает смеяться вместе с остальными. У него на глазах выступают слезы. Прекрасно. Они с Тушинским церемонно раскланиваются.
Но представление еще не закончено.
– И все же… кто это будет? – актер опять начинает кружить. Желтые отсветы на его лице. – Я выбираю…
В этот раз все серьезнее. Круг, еще круг. Напряжение растет. Словно Тушинский с усилием взводит невидимую пружину. Наконец его взгляд останавливается на Ядвиге. Он делает шаг. Пауза. Поднимает руку. Пауза. Холодный огонь в глазах, ровный гипнотический голос: – Я выбираю шлюху.
Молчание, подозрительно похожее на гробовое.
Скрип стула.
«Как вы смеете…» – начинает подниматься с места какой-то сообразительный энсин. Голоса. Возмущенный гул набирает обороты.
Ядвига встает.
Голоса обрезает, как ножом.
…Скандалист и насмешник, волокита и пьяница – выходя на сцену, Тушинский совершенно преображался. В этом было нечто мистическое. Больше тридцати лет прошло, а у меня до сих пор озноб по коже.
– Мы начинаем, господа, – актер впечатывает каблуки в паркет. Замирает, опустив руки.
Запускают граммофон. Скрип иглы, шипение пластинки. Раскручиваясь, как пули по нарезам, по латунному раструбу набирают скорость первые аккорды. Скрипка. Ч-черт. У меня замирает в груди от неожиданного: хорошо. Кажется, каждым движением смычок задевает мне сердце. Боль. Продолжает скользить, окрашенный кровью.
Так-так, так-так, так-та-да – вступает бандонеон.
Появляется Ядвига.
Черное платье с разрезом, белые перчатки до локтя.
Тушинский ждет. Кровь.
Обмен взглядами. И нужно ответить: может быть. Ядвига снимает перчатки – одну, другую. Мне больно от этой обжигающей наготы. Словно я вновь на мостике, стучат машины, ревут волны, черный дым закрывает небо… осень. На горизонте – низкие темно-серые силуэты. Фонтан, еще фонтан.