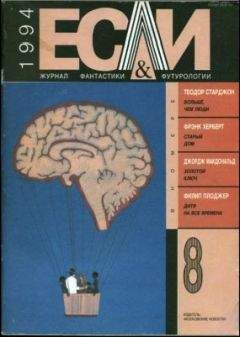— Ну, Ма, что ж ты его за двухлетку считаешь?
— откликнулся Продд. Должно быть, эти глаза снова смутили его.
Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда он думал уже, что она спит, жена внезапно сказала:
— Да, Продд. Придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше.
— Как так?
— Начнем все с начала… Будто он малыш, — ответила жена.
Муж притих и после долгих раздумий спросил:
— А как назовем?
— Только не Джеком! — встрепенулась она.
Он согласно буркнул, не зная, что и сказать.
— Подумаем еще, — проговорила она, — у него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое? Придется подождать. Он вернется и вспомнит его.
А потом пошли чудеса.
Однажды Продд с трудом вытаскивал из амбара длинный брус двенадцать на двенадцать, а с другого конца его подхватили две сильные руки. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился не скоро.
Когда он прожил у них ровно год, миссис Продд припомнила дату и испекла пирог. Повинуясь какому-то порыву, она воткнула в него четыре свечи. Продды, сияя, глядели на своего подопечного, а он не отводил взгляда от четырех язычков пламени. Странные глаза эти вдруг притянули сперва ее, а потом и Продда.
— А ну, задуй-ка, сынок.
Он все понял и, нагнув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Продд похлопал его по плечу, а миссис Продд поцеловала в щеку.
Что-то повернулось в нем. Мерзлое горе растаяло и хлынуло потоком: он заплакал.
Такие же громкие рыдания год назад навели на него Продда в сумраке леса. Обхватив руками его голову, миссис Продд принялась ворковать, утешая односложными звуками. Появившийся возле Продд нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным:
— Ну, ну… ну же.
Наконец рыдания прекратились. Он озирался, хлюпая носом, что-то новое появилось в его лице. Словно исчезла маска, на которую была натянута кожа лица.
В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, понять тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде — налетало, как дуновение ветра. И он принялся вертеть и крутить это знание перед внутренним взором. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него, но он уже научился выделять слова, что были обращены к нему, отличать их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других: понятия сами собой вползали в его голову и были настолько неясны, что облекать их в слова он учился с большим трудом.
— Как тебя звать-то? — однажды спросил его Продд. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид бьющей струи приворожил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания. Подняв глаза, он встретился взглядом с Проддом.
Имя. Сущность. Имя и есть я, все, что я делал, чем был и что узнал.
И все это было где-то близко, ожидая единого символа — имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери…
Все один.
Он попытался выразить это словами. Концепцию и лексику он почерпнул у Продда, а заодно и произношение. Но понять — одно, осмыслить — другое, а физически выговорить звуки — третье. Окостенелый язык его шевельнулся сапожной подметкой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задергались.
— Всс, вс…
— Что, сынок?
Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог.
— Вс-вс… о… один, — наконец выдавил он.
— Дин? — переспросил Продд.
Слог этот что-то говорил фермеру, он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено.
Идиот попытался повторить звук, но косный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки…
— Дин, — повторил Продд.
Он кивнул в ответ: это было и первое его слово, и первый разговор — еще одно чудо.
Разговаривать он учился пять лет, но все же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог.
Запах дезинфекции будил в Джерри Томпсоне чувства голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон — сыростью, холодом, страхом, всем, из чего рождается ненависть. К шести годам Джерри успел уже сделаться мужчиной, во всяком случае по-мужски привыкнуть к тому серенькому довольству, возникающему, когда тебя никто не трогает. Со стороны терпение его казалось несокрушимым, как у тех целеустремленных людей, что выглядят рассеянными, пока не настанет время решать. Джерри повидал в свои годы достаточно, чтобы стать мужчиной. В шесть он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Так он прожил еще два года и наконец решился.
Тогда он и убежал из сиротского дома жить среди сточных канав и мусора, оскаливаться, когда загоняют в угол, и ненавидеть.
Ну а Гип не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запах этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача. Гипу казалось, что даже голос доктора Бэрроуза источает запах карболки и хлорки.
Гип Бэрроуз был способным мальчишкой, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти над собственным любопытством.
Уже с детства способности Гипа обещали развиться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему все, о чем может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной легкости нечто вроде кражи: дескать, все ему достается вовсе не по заслугам… Так повторял его отец, доктор: ведь он-то тяжким трудом добивался успеха.
Свой первый радиоприемник Гип соорудил лет, кажется, в восемь. Детекторный, даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашел тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в девять лет отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радио и, свалив их в кучу перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В двенадцать Гип добился права учиться в техническом колледже — за тайно изготовленный осциллограф без электродной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В пятнадцать лет Гипа с треском выгнали из медицинского колледжа — так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а, добавив несколько поперечных связей, добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В шестнадцать, к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже.