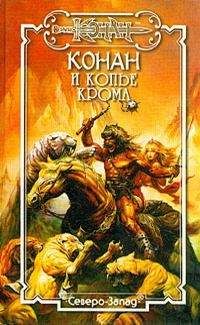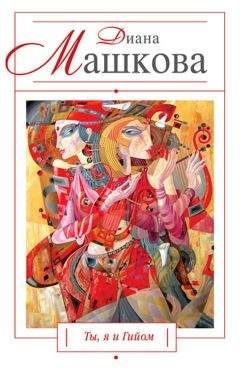4. О том, как поклонялись Святому Копью, и как Оно принесло христианам победу.
Кажется, первым был благочестивый герцог Годфруа. Да, Годфруа, кому ж еще - не с провансальской резкой порывистостью, а с северной, степенной и тяжелой, но бросился (опустился так быстро, будто ему подрубили ноги) на колени. Раймон даже слегка отшатнулся - думал, верно, перед ним преклонился Годфруа; но запрокинутое каменное лицо герцога, дрожащие губы в обрамлении серой молодой бороды, дрожащие (неужели влажные?) веки его вечность не спавших, красноватых глаз сказали все так ясно, что понял граф Раймон. Протянул - словно с небес на землю, медленно, торжественно опуская руки, как священник - вознесенный под небеса сосуд с пресуществленной Кровью. Да и этот сосуд был с Кровью, красноватой ржавчиной на краях, источенных, как сухая земля в трещинах и вздувшихся язвах жажды. Граф Раймон подал коленопреклоненному на церковных белых ступенях человеку (паломнику, это бедный паломник перед святыней, он обожжен солнцем, он сожжен любовью, он так долго шел) - Святое Копье для целования.
Припал к нему ртом герцог Годфруа, чуть приоткрыв губы, слегка выворачивая их, чтобы верней осязать привкус земли и ржавчины. Привкус старого-престарого железа, о, может быть, Крови?.. Прочертили-таки по его каменным щекам две дорожки восхищенные слёзы. Так целуют не рот любимой, не воду, поданную изнывающему от жажды - нет, родную землю, сухую и сладковатую, ту, на которую уже и не надеялся ступить после долгой, безнадежной морской дороги. И долго бы стоял так Годфруа, набирая в себя вкус священного поцелуя, но всколыхнулась толпа, и пылкий граф де Ластур, провансалец, уже бухнулся на колени рядом, едва ли не оттесняя паломника, и родной брат герцога, Эсташ, уже тянул его за плечо с настойчивостью ревнивого влюбленного...
И они целовали Святое Железо, по очереди прикладывались к проржавевшему обломку металла губами, благословен Бог вовек; когда бароны кончились, пришел черед рыцарей, и странно было смотреть, как они подходили один за одним, меряясь надменными взглядами, стараясь оттеснить друг друга, двое даже потянулись за мечами - если бы не строгий окрик епископа Оранжского, так непременно схватились бы меж собой. Но уже коленопреклонившись, кто плакал, кто улыбался, как влюбленный дурень, кто силился прижаться щекой, лбом потереться о Божью железяку, желая близости, близости беспримерной к единственному Возлюбленному, я люблю тебя, люблю Тебя более всех, друг мой, брат мой, Бог мой, я хочу надеть твою рубашку, отпить из твоей чашки, драться твоим мечом, принять в себя Твою кровь... И эта побратимская, сумасшедшая близость была так сильна от прикосновений, самых близких на свете - я касаюсь оружия, пронзившего тебя... я целую твою мертвую руку... твое алое сердце... - что менялись в лице рыцари, - франки, окситанцы, сицилийские нормандцы, делаясь на краткий миг схожими, словно родные братья. И отходили прочь, с вежеством уступая другим место возле святыни. Раймон же, тот, кто держал их сердца в своих слегка повлажневших ладонях, стоял над всеми, как радостный король, как старший из братьев, и смуглое лицо его казалось совсем светлым, горящим, будто светильник. Но Пейре не смог бы назвать это сияние каким-то одним словом. Торжество? Чистая любовь? Облегчение?..
- Что же, мессир Раймон, вы ловко все это сделали.
Это произнес не Боэмон, нет. Всего-навсего один из его рыцарей, светлобородый, высоченный; он стоял, широко расставив ноги, крепко упираясь ими в землю: хорошо стоит на ногах сицилийский солдат, трудно сдвинуть его хоть на шаг. Котта на плечах - некогда желтая, но те времена миновали. Только красный крест остался прежним, да и не один на нем красный крест на груди большой, на плечах два поменьше, еще один, совсем маленький - на застежке под горлом... Сразу видно, истовый крестоносец. Наверное, на спине тоже крест нашил: по Папину слову, всяк, кто хочет домой возвратиться, пусть нашьет знак и между лопаток. А этот парень - издалека видно - домой возвратиться не против.
Граф Раймон и бровью не повел на насмешливые слова. Впрочем, нет - как раз бровью он повел, слегка изогнулась черная бровь, но лицо осталось все таким же неподвижным, взгляд устремлен на святую реликвию. Нет в мире графа Раймона сейчас места Боэмонову наглецу.
Зато иначе все обстоит с окситанским рыцарем, только что преклонившим колена. Даже граф де Фуа не успел с места стронуться - тот уже вскочил на ноги, молодой, еще безбородый, худое лицо все в потеках благочестивых слез.
- Эй, наглец, как тебя зовут? Если не стыдишься своего прозвания, конечно...
Тот в долгу не остался; усмехнулся - рот как щелка, глаза - две горизонтальные черточки. Примерно одного роста с ним окситанец, но сицилиец покрепче на вид.
- Чего мне стыдиться. Я Рожер из Таренты, родня князя Гвискара, а эту железку не Лонгин, а твой сеньор вчера сам во храме закопал. Довольно с тебя или еще что спросишь?
Весь вспыхнул юноша, Бертран из Мюрета, пальцы сами собой сжались в кулак. Не то ударить хотел, ломанувшись на святотатца, не то за меч схватиться; ближайшие в толпе назад подались, однако же не слишком сильно народ до зрелищ охоч, даже до кровавых; за несколько дней голода насытится душа сильными ощущениями - открытая святыня да рыцарская свара... Много в душе человеческой разных похотей, есть там и такая.
Но не допустил Господь до беды, сам Боэмон оборвал своего человека. Видно, неглуп Тарентский князь, понимает - сейчас люди не на его стороне. Вон как вскинулось почти все баронское войско, сам Годфруа побледнел, и Робер Короткая Нога нехорошо как-то улыбается; даже среди семьи не найти сейчас Боэмону поддержки - Танкред тащит с руки кожаную перчатку, весь побледнев; а против Танкреда недолго выстоит даже здоровила Рожер из Таренты, Боэмонова родня по матушке.
- Замолчите, вассал. Не вам порочить дела Божьи, лучше преклонитесь и почтите реликвию, как подобает.
Изумлен Рожер; огорошен с лица бедняга Рожер, но сеньору своему перечить не смеет, покорно опускается на ступени - не на два колена, лишь на одно, правое. Хмуро Рожеру, но что ж поделаешь - не глядя вверх, бормочет в светлую, мокрую от пота бороду слова извинения, иначе не опустит рук граф Раймон, не даст надерзившим устам к Копью прикоснуться. Но граф Раймон добр, граф Раймон сегодня счастлив, и хотя нет любви к Рожеру в его обведенных усталостью глазах - ни одного не отлучит он своей властью от святыни. Безумно жарко, спину графа щекочет стекающий ручьями пот, и ворот одежды потемнел от влаги; но недвижим Раймон, будто холодит его через руки волшебное железо; не труднее то, чем дожидаться атаки, когда грудь вздымается под разогретой солнцем кольчугой, а между кожей головы и круглой верхушкой шлема - словно бы кипящий котел. И потому улыбается Раймон, по седым вискам катятся прозрачные капли пота, оставляют темные пятнышки на вороте рубахи. Сегодня его день, Господь на него смотрит, и пред Господом готов он прямо стоять на жаре хоть вечность, и не устанут руки, хотя рыцарь, сейчас становящийся, поморщившись (рана, должно быть) на колено, из числа уже не первой сотни.