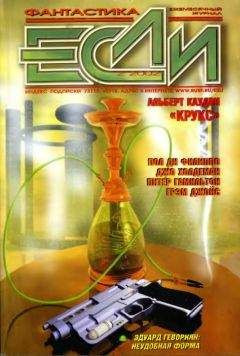Конструктивисты (или рационалы) шли не от образа, а от проблемы, как правило, социальной. Сначала она мусолилась в голове, обрастая экстремальными вариантами. Затем моделировалась ситуация, в которую мог попасть герой, расписывались эпизоды, куски диалогов, пафосные финальные декларации. И здесь имел место «двоякий» стиль работы. Первый — последовательный, я бы даже сказал детерминистский, когда текст создавался непрерывно, слова ложились кирпич на кирпич, рассказ строился, как дом — от фундамента к крыше. В этом ключе работал Борис Руденко.
Другой прием можно назвать «многопоточным». Замысел, положенный на бумагу, кажется простым и пресным, забрасывается в дальний угол письменного стола, а в это время ведется работа над другим сюжетом, обдумываются схемы третьего… Через некоторое время неудовлетворенность первым вариантом рассказа взбухала в сознании вопросом: а что если все так коряво описанное есть внешнее проявление каких-то глубинных событий или явлений? Что кроется за этими поступками и словами? Иногда в минуту озарения (привет интуитивистам) становилось ясно, что идея трех, а то и четырех рассказов — это всего лишь разные стороны или уровни одной истории. Так, слово за слово, текст обрастал новыми смыслами, неожиданными (порой и для автора) поворотами сюжета и непредусмотренным финалом.
Фигурантам первой категории была свойственна работа без всякого плана: текст долго крутился в голове, а затем сразу и почти набело его фиксировали на бумаге. Логические противоречия, частые гости интуитивистов, не портили впечатление, катахреза воспринималась как должное.
Рационалам, естественно, присуще составление тщательно продуманных планов, расписывание сюжета чуть ли не по страницам, выстраивание скелета косточка за косточкой, потом хрящик к хрящику, а когда все это облеплялось мясом атрибутики и эпителием диалогов, то рассказ был практически готов.
Впрочем, здесь я не претендую на строгость методологической дифференциации; некоторым удавалось совмещать оба подхода, а то и переходить от одного к другому в зависимости от качества и количества употребляемых напитков.
2.
Московский семинар (а впоследствии и так называемая «Малеевка») не был учебным заведением, пусть даже неформальным. Научить кого-либо писать, в принципе, можно, если посадить на цепь, хлеб и воду, по четвергам пороть нещадно, а оковы снять лишь после первой публикации. Если в человеке нет внутренней необходимости вербализовать свои мысли и эмоции, то все остальное — предмет технологии, а не вдохновенного искусства.
К тому же какой автор позволит, чтобы его учили? Каждый знает, что он уже всего достиг и превозмог, другое дело, что судьба-злодейка пока еще благоволит другим, которые и пишут хуже, и вообще… В чем тогда смысл семинаров? Наверное, это своего рода группы взаимной поддержки, где можно общаться с себе подобными, реагировать на замечания относительно своей гениальной, но не понятой глупыми редакторами рукописи и так далее. А там, глядишь, кто-то пробьется, потащит за собой других…
Вот и на Московский семинар приходили люди, уже более или менее умеющие писать. Конечно, и мы болезненно реагировали на критику, огрызались на замечания «старших товарищей» — и не замечали, что учебный процесс все-таки идет! Только много лет спустя мы поняли, да и то не все, как нам повезло с наставниками.
Мне уже доводилось вспоминать о трудах и днях Московского семинара, не вдаваясь в детали[14].
Работали с нами по очереди Евгений Войскунский, Георгий Гуревич и Дмитрий Биленкин. У каждого был свой подход к относительно молодым, но весьма буйным дарованиям.
Дмитрий Александрович, мастер короткой новеллы, необычайно тонко чувствовал слово; малейшая фальшь, корявость оборота, несуразность фразы заставляли его брезгливо морщиться, и тут уж виновник получал сполна. Речевые характеристики персонажей, слог, грешащий красивостью, или, наоборот, суконный язык — все разбиралось до мельчайшего винтика, до запятой… Он допускал стилистические эксперименты, но только в пределах традиции русской словесности. Косноязычие, игру слов, затемняющую смысл, он называл ученичеством, достойным приготовишек. «Когда человеку нечего сказать, он начинает молоть языком, авось само выпишется. Так вот — не выписалось!» — сказано было однажды Биленкиным во время обсуждения рассказа одного автора, ныне весьма плодовитого.
Евгений Львович, человек сложной судьбы, воплощал в себе этическое начало, его, в первую очередь, интересовали нравственные аспекты произведения, психологическая достоверность. Атрибутике, «фантастическим» компонентам он уделял минимальное внимание. На первом месте стояла судьба человека, его треволнения. Особое внимание уделялось реакции персонажей на чрезвычайные обстоятельства. За неадекватную реакцию героя отвечать приходилось автору. К экспериментам он тоже относился настороженно. «Вы прежде докажите, что умеете работать в рамках канона, жанра, традиции, а только потом начинайте рушить их, если тогда сочтете это возможным», — его слова на обсуждении какого-то нахрапистого кандидата на зачисление в Московский семинар. Насколько я помню, не приняли большинством голосов.
Георгий Иосифович, который, собственно говоря, был для нас патриархом, живой легендой, относился к своей миссии на семинаре чрезвычайно ответственно. Человек исключительно доброжелательный, спокойный, он свирепел, когда сталкивался с откровенным нежеланием работать «над ошибками», с попытками увести разговор от конкретного произведения к общим проблемам. Как строить сюжет, почему чем больше вымысла, тем строже должна быть логика, где искать новые идеи, что необходимо знать, чтобы не повторяться… По молодости лет некоторые из нас скептические относились к его урокам, полагая, что времена изменились и то, что было хорошо, скажем, в шестидесятые, не годится в наше время. И зачем нам все эти детали и подробности, когда мы работаем на вечность! Кто-то возьми и брякни это вслух, на что Гуревич кротко ответил: вечность любит играть шутки со смертными людьми, и если бы мы понимали, как короток век почти всех книг, то это несколько смирило бы нашу гордыню.
Не смирило. Каждый из нас тогда был уверен, что мимолетны другие, а вот его творчество — другое дело!
Изредка нас посещал и четвертый руководитель — Аркадий Стругацкий. Своим явлением он как бы освящал семинар. Приход Аркадия Натановича был маленьким праздником, запоминался надолго, и, естественно, в этот вечер было не до рутинной работы.
3.
Научная фантастика… Науки, как правило, в произведениях семинаристов было маловато, хотя иногда раздавались слова, что социология, психология, этика, они, мол, тоже науки. Но одно событие четко расставило все по своим местам. Генрих Альтов прислал нам длинный вопросник-анкету, желая выяснить элемент новизны в наших произведениях. По крайней мере, так вспоминается. Самое интересное, что долго никто из «семинаристов» не мог понять, что от нас требуется и, главное, зачем? А когда наконец сообразили, то гордо и практически в один голос заявили, что у нас тут не патентное бюро и не клуб изобретателей и рационализаторов. Мы о человеке пишем, можно сказать — социальную фантастику, а все эти железки, научные идеи и прочее — не по адресу.